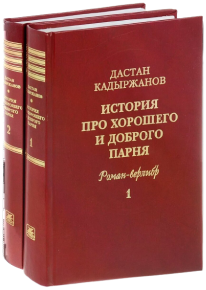и доброго парня
2006-2010
«История про Хорошего и Доброго Парня»
Эту книгу недостаточно прочесть. Её надо прожить.
Как сказано в предисловии к роману, его главная идея возникла на основе того, что я увидел сходство того духовного выбора, который делает наш современник и совершили первые сподвижники Великих Пророков – апостолы, мухаджиры и т.п.
Изучая вопросы веры и религиозных преданий, я вдруг обнаружил, что судьба 12-ти апостолов Иисуса Христа известна лишь после того, как они присоединились к нему. Кем они были до этого? Известно лишь, что большинство были, вероятно, простыми рыбаками Галилеи и Иудеи. В то же время образ рыбака может быть простой аллегорией. У каждого из 12-ти апостолов была своя уникальная судьба, которая в итоге привела их к Христу. И это были не просто судьбы, а жизнь, которая привела к гигантскому духовному прорыву, рывку, катарсису личности, которая обрела способность видеть и слышать, слушать и понимать то, что осталось непостижимым для многих других. В то же время апостолы – это не полубоги, не мистические сверхлюди со сверхспособностями. Нет – это обычные люди, такие же, как мы, с такой же или похожей судьбой, духовным поиском.
Видение апостолов через призму современного человека дало мне возможность «придумать» каждому из 12-ти такую судьбу. Поскольку образ апостолов для нас интересен не в контексте Иудеи 1-го века н.э., а в контексте нашей современности, то их судьбы оказались тесно переплетены с реалиями различных этапов истории человечества, в том числе и с нашим современным миром. Получилась некая вневременная фантасмагория, вплетенная в традиционный евангельский сюжет. Впрочем, и само время в романе обладает ярко выраженным «нелинейным» характером. Часто это иллюстрирует то, что многие классические сюжеты религиозных преданий подаются не как истории о прошлых событиях, но как предсказания.
Роман состоит из 40-ка стихов. В сюжетном плане – это 12 самостоятельных историй и одно сквозное повествование, основанное на евангельской истории Исы Пайгамбара. Главы часто очень сильно отличаются друг от друга манерой повествования. Так, например, главы евангельских сюжетов обычно подаются в поэтической, аллегорической форме. В то время как истории апостолов в большинстве своем носят повествовательный характер.
При том, что повествование не обладает строгостью временных рамок, многие эпизоды стали итогом очень тщательного, длительного и скрупулезного исторического анализа. Поэтому исторические реалии, вплетенные в повествование, часто являются реальными историческими сюжетами, многие персоны и обстоятельства являются правдивыми.
Названия глав историй апостолов — «Камень» (Пётр), «Воскресшее сердце» (Левий Матфей), «Воин» (Симон Зелот), «Лицедеи, они и нищие духом» (Иуда Искариот), «Три сына Иакова Зеведеева» (Иаков), «Архитектор» (Фома), «Я, семья, война» (Иаков Алфеев), «Человек, живущий в остановившемся времени» (Филипп), «Царь» (Варфоломей), «Великая Всемирная Революция» (Андрей), «Ангел» (Иуда Левей (Фаддей)) и «Поэт» (Иоанн Богослов).
Роман «История про Хорошего и Доброго Парня» написан в жанре свободного стиха – верлибра, поэтому одинаково может считаться и романом и поэмой. В свободном стихе во главу угла поставлена ритмика, что сближает его как с изложением восточных поэм, так и со слогом большинства священных книг.
Особую роль в книге играют эпиграфы. В большинстве своем это цитаты из Корана, но представлены также строки из других священных книг и мудрые мысли великих людей. Такой подход не случаен – через произведение постоянно проходит стержневая идея о том, что Бог един и носит лишь разные имена; что одной из важнейших проблем человечества является утеря его Цельности во взаимоотношениях с Всевышним. Цельности не как стандартизации или унификации «под одну гребенку», а морально-этической, духовной Цельности Человека, как вида, как совокупного разума, как совокупной души, вера которого в Единственного оказалась раздробленной на кучу маленьких и больших групп. Возможно, именно утеря этой сакральной Цельности и отделила нас от Всевышнего – но на такие вопросы, сегодня, как правило, нет ответов.
К описанию книги приложены некоторые главы романа. Однако они не являются «типичными» в обычном смысле слова, чтобы через прочтение одной главы судить обо всем произведении. Сюжеты отдельных историй, как правило, имеют мало общего между собой и различны как по содержанию, так и по стилю.
Тем не менее, при всем разнообразии сюжетов, роман представляет собой цельное произведение. И видение этой цельности к концу книги все более усиливается.
Однако в современном интенсивном мире не каждый может найти достаточно времени, чтобы прочесть почти тысячу страниц романа – отсюда и необходимость в это аннотации. Поэтому в электронном приложении – несколько глав для формирования общего представления о произведении: Предисловие автора к роману, Стих 1, Стих 2, Стих 16 «Воскресшее сердце» (История апостола Левия Матфея), Стих 24 «Гора» (Нагорная проповедь) и Стих 27 «Я, семья, война» (история апостола Иакова Алфеева).
Дорогие читатели!
Я посвящаю эту книгу моим современникам.
Не просто тем, кто родился как я — в 60-х годах прошлого столетия. Но тем, кому пришлось явиться в этот мир в некогда великой стране – Союзе Советских Социалистических Республик. Тем, кому пришлось формироваться как личность в обществе «без Бога» — в атеистическом мире коммунизма. А также тем, на чьих глазах впоследствии этот атеистический мир рухнул.
Что мир знает о нас, таких, как я?
В 90-х, после развала Советского Союза, мир удовлетворенно следил за тем, как кусочки бывшей «империи зла» маршируют от социализма к «приватизации и демократизации». Всех интересовало лишь то, как меняются наши политические системы, экономические приоритеты, отношения к правам человека и собственности. Мир наблюдал, как новые страны вливаются в «общемировые» процессы и человечество становится по-настоящему глобальным видом, после того как «железный занавес» разделял его на части.
Но эти события были только внешней стороной явлений, за которыми скрывается гигантский пласт того, что происходило и происходит в сфере духовного перерождения бывших советских народов. Вот этот-то самый пласт и делает нас по-своему особенными в мире, не похожими ни на кого.
Не верите? Спрашиваете, в чем же эта особенность и непохожесть состоит?
История знает много примеров тому, как целые континенты оказывались охваченными антирелигиозными и антицерковными воззрениями. Стоит только вспомнить Европу времен Великой Французской Буржуазной Революции. Но никогда атеизм не приобретал такого широчайшего размаха и такого фундаментального характера, как при коммунистических Советах.
В СССР проживало около 286 миллионов человек, а если к ним прибавить страны «социалистического лагеря», то можно легко вообразить себе силу влияния коммунистической доктрины. Она была не просто отрицанием церковных постулатов и институтов. Как ни парадоксально, но коммунизм стал практически новой религией, утверждавшей, что Царствие Небесное — вполне рукотворно и может быть построено вопреки Божественной силе на земле, без ответственности перед Судным Днем, без Великих Книг и общения с Богом. Эта квази-конфессия обладала собственной храмовой, культовой и ритуальной традицией, которая складывались не один день и не одно поколение.
Однако, безусловно, речь все равно идет об антирелигии, поскольку в коммунистической мировоззренческой системе не было места Богу.
В то же время коммунизм был не просто идеологией власти или совокупностью отдельных воззрений – это была во всех отношениях цельная научная и в то же время популярная доктрина. К тому же победа этого учения была щедро окроплена кровью миллионов, искренне отдавших свою жизнь за его торжество. Диалектический и исторический материализм вкупе с эволюционизмом Дарвина приобрели черты самостоятельной системы взглядов, способных давать ответы на все вопросы мироздания. Существовали даже коммунистические заповеди, собранные в документе под названием «Моральный кодекс строителя коммунизма».
Мое поколение и было воспитано этой системой, накопившей к концу ХХ-го столетия огромный потенциал воздействия на формирующуюся личность.
В школе нам говорили: советские космонавты летали в космос и убедились, что там никакого Бога нет. Нас с детства учили не верить в то, что Всевышний хоть как-то причастен ко всему сущему на земле.
Я помню, как маленьким пионером, спустя три месяца после того как мне повязали красный галстук на шею и прикрепили значок с юным Лениным на лацкан, мы с другом шлялись возле Никольского собора в Алма-Ате и приклеивали на забор храма самодельную листовку с надписью «Бога нет!». Я верил в правильность того, что я делал. Эта была глупая детская бравада, но она олицетворяла собой мою причастность к великому учению Маркса и Ленина, провозглашавшего, что верить надо в собственные силы разума и науки, а не в иррациональные высшие существа, которых боятся глупые и старые бабки из церкви.
Нам говорили взрослые: «Раньше люди боялись природы и приписывали ее могущество некому Богу, а сегодня мы — хозяева своей судьбы, мы материалисты. Все, что придумали муллы, попы и монахи – все ложь».
В школе мы были октябрятами, пионерами и комсомольцами. Все советские дети помнят, что именно в этих молодежных коммунистических организациях сызмальства формировалось в юных ленинцах фундаментальное отрицание Бога, Аллаха, Всевышнего.
В университете мы столкнулись с таким предметом, как «Научный атеизм». У него была, собственно, одна задача – препарировать мировые религии с точки зрения их абсурдности, нелогичности и несоответствия диалектическому материализму, системно и навсегда в осознании мира убить в нас понимание Бога.
И знаете, о люди Запада и Востока, им это удавалось на славу!
Это был могучий Советский Союз, где старшее поколение (отцы и деды) были коммунистами, защитившими его главную доктрину не в тиши кабинетов и мечетей, а на фронтах Гражданской и Великой Отечественной. Они и в повседневной жизни продолжали ее защищать ежедневной борьбой не только против «мирового империализма», но и против религии, как одного из его средств порабощения человеческого сознания с древних веков и до нашего времени.
А потом все рухнуло. Я про СССР.
Нам было в среднем немногим за 20.
Вдруг оказалось, что общество должно быть иным политически – это неожиданно осознали власть предержащие; что экономика должна быть построена по-другому – это осознали они же; и что отношения между людьми тоже, оказывается, должны быть в корне пересмотрены.
Ну, а что делать с Верой? И вот тут все оказалось намного сложнее.
Кто из представителей, как у нас принято говорить, «дальнего зарубежья» хотя бы раз задался вопросом, что происходило тогда по-настоящему в наших душах? Когда от воинствующего атеизма мы переходили к Вере? Когда исчезала доктрина коммунизма, и мы остались один на один с тем, что, оказывается, она не выдержала конкуренции с внешним миром, и нам придется находить себя в новых реалиях?
На первый взгляд вроде все просто – те, кто до революции верил в Аллаха, придут автоматически к исламу, те, кто ранее причислялся к католикам и православным – придут к христианству. Не так, мол, много времени прошло, чтобы забыть, что это такое. Ведь многие советские дедушки и бабушки пронесли светоч веры через все тернии борьбы марксистов-ленинцев с «религиозным мракобесием».
Верно. Но!
Мы же не просто должны были статистически перейти из одной социальной морфы в другую, не просто пройти по пути восстановления забытых традиций. Мы ведь должны были поверить.
Понимаете, поверить!!!!
Диалектический материализм объяснял все предельно понятно – и происхождение мира, и развитие видов по Дарвину, и связь явлений в природе и в обществе. Мы уходили от одной Цельности мировоззрения, но приобрели ли новую? Не формально, а искренне? Что и как происходило на самом деле? На своем Пути мы обретали Бога или лишь формальные признаки религиозности, не меняя сути своего отношения к Вселенной, к мирозданию?
Мир просто «перемотал» на своем пульте управления этот процесс – нашего прихода к Вере. Миру, в общем-то, было не особенно интересно – демократии худо-бедно продолжают строиться, страны вовсю участвуют в мировом рынке и иных геополитических игрищах. А что произошло и происходит в душах людей – это как бы происходит «за кадром». Или, в крайнем случае, отражается в хронике борьбы конфессий «за канонические территории влияния». Многие думали и продолжают думать: «Лишь бы не вырастали очаги религиозного экстремизма и терроризма – а остальное лишь экзотический антураж».
Я, мои друзья, родственники, знакомые – все ступили на Путь осознания своего нового понимания жизни и своего места в ней. Этот поиск и сегодня продолжается – споры о том, как верить, во что верить, в какую мечеть ходить. Быть христианином — это приемлемо для казаха или нет? Русский – это обязательно православный или нет? Нужно ли совершать все обряды? Как правильно их совершать и так далее.
А тут еще прибыли разные «миссионеры, муллы и проповедники», которые бодро использовали нашу болезнь «вчерашнего атеизма», часто разрушая жизнь людей и целых семей в сектах сомнительного толка.
А многие, между прочим, сказали так — а к чему меняться? Атеистов и людей вне конфессий и без нас в мире навалом. Что изменится, если я им останусь на всю оставшуюся жизнь?
И вот, на одном из поворотов моего Пути, состоялся тот диалог, который воодушевил меня на написание этой книги. Этот разговор с другом словно небесным прожектором осветил то главное, чему я решил посвятить ее страницы.
Однажды мой друг, Найзабек, в пылу спора сказал мне: ты много думаешь про то, как воспринимать тот или иной обряд, как относиться к тем или иным аспектам вероучения. А представь себе другую страну, где дети с детства естественно мусульмане, естественно католики, и это их образ жизни, система ценностей, приобретенная и внушенная изначально, с самого рождения. И они никогда, никогда не сомневаются так, как мы. Для них это не нечто новое, а просто естественно приобретенное с самых первых дней жизни, вроде имени.
И тогда я понял нечто.
И это нечто заключается в следующем. В каждой религии были первые сподвижники – первые христиане, первые буддисты, первые мусульмане -мухаджиры и ансары. Они были воистину первыми. Теми, кому предстояло «с нуля» поверить в Новое Слово Господне. Теми, кто изначально был лишен комфорта просто следовать устоявшейся системе ценностей, не задумываясь о том, что жизнь готовит им совершенно иную и замечательную судьбу.
Представьте – и мухаджиры и апостолы были теми людьми, которые вдруг поверили в новое Послание миру, смогли преодолеть в себе сомнения, страх, разночтения, традиции прошлого, отвергнуть все то, что было прежде до них, веками правило обществом и самое главное – составляло традиции их отцов, которые им вменялось в обязанность хранить незыблемыми.
Но они изменились. Они поверили во Христа. Они поверили Мухаммаду. Поверили Шакьямуни-Будде.
Они стали первыми, кто поверил.
И я понял. Мы такие же.
Они начали все с Начала. Мы тоже несем в себе поэтику первопроходцев и первых сподвижников. Мы трепещем, боимся, упрямо смыкаем губы, плачем, ошибаемся в суждениях, спорим друг с другом до хрипоты. С силой поднимаем глаза в возражении, сдерживаем дрожь челюстей, невпопад смеемся, врем, что верим, верим, что искренни. Среди нас есть упрямцы, конформисты, логики и иррационалисты. Каждый начинает с собственного шага – кто с разговора с замечательной личностью, кто с прочтения одной из Священных Книг, кто просто под влиянием личного примера друзей.
И мы тоже начинаем все с Начала.
Именно сомнение сделало нас подобными им — первым. На нашем Пути лежат сомнение и борьба с ним, победы и поражения разума, конфликты веры и души.
Конечно, можно возразить, что современным неофитам гораздо легче, чем их древним предшественникам. Ведь общества сегодня поощряют и приветствуют возвращение к духовным истокам прошлого, а не травят львами, не побивают камнями и не распинают.
Жизнь говорит, что это поверхностное понимание.
И тогда и сегодня Путь к Вере внутри человеческой души, человеческого сознания, не был простым и никогда не будет. Этот Путь всегда — процесс фундаментальной трансформации человеческой личности, маленькой и огромной вселенной, за которую идет вечная борьба светлого и темного начал.
Тогда и сегодня на искренний поиск истины отдельного индивидуума общество может обрушиться всей силой своей пропаганды, своего цинизма, карьеризма, лицемерия, силами капитала, военной и полицейской машины одновременно. Ведь мир, как и в древние времена, не преуспел в организации жизни по заповедям Великих Книг, и когда еще преуспеет?
И тогда, и сегодня конфессии всё более разделяют людей, когда должны были объединять, сливать воедино человеческую породу на основе мира и согласия перед очами Всевышнего.
Спустя многие годы и века, история создала в нашем лице неофитов, которым, возможно, предстоит участвовать в последних битвах Судного Дня. Может быть и нет, но ведь, помимо Главного Дня, свой судный день будет у каждого, во вневременном понимании этого явления.
Да, мы новые апостолы и мухаджиры. Мы должны так же пройти Путь сомнений, мучений, борьбы с условностями, косными традициями, непониманием и страхом, которые и сделали первых последователей легендарными, святыми и почитаемыми.
Дорогие мои современники! Вы думаете, что их судьба сильно отличалась от вашей? Думаете, они шли к Вере вне обстоятельств той жизни, которую знаете вы? Считаете, что в древности и средневековье было во сто крат сложнее стать на Путь Веры, чем сейчас? Или наоборот – вы считаете, что жизнь древних была проще, чем наша, элементарнее и менее насыщена эмоциями и переживаниями в силу, например, отсутствия у них глобального информационного знания?! Это те же люди, что и сейчас, граждане и подданные, воины и поэты, рыбаки и цари, родственники и должники, невесты, негоцианты, бедняки, конформисты и кочевники.
Когда я понял это, то решил обратиться к известной истории про одного Хорошего и Доброго Парня, его Двенадцать друзей и увидеть ее заново. Прожить ее снова, чтобы понять, как эти простые парни стали теми, о ком помнят тысячелетия и передают знания о них из уст в уста? Что происходило с ними до того, как они стали на Путь легендарный? Ведь до этого были просто пути обыкновенных людей, которые, все же, привели их к тем необыкновенным событиям, что поныне помнят и почитают люди разных народов и конфессий.
Казалось бы, есть между нами и ними одно существенное различие.
Они могли разговаривать с Великими Пророками непосредственно. Ощущать их, трогать полы их платья, задавать им вопросы о Вере, о Боге и получать на них вечные ответы, вдыхать аромат их дыхания, ощущать кожей их божественную харизму.
Это общение стало той силой, которая разрушала их сомнения и страхи. Они слышали, видели Великих, и им посчастливилось быть их свидетелями. Они видели их борьбу, не только против общества, но и внутри самих себя, а это бесценно.
А мы? Так вот, мы тоже можем. Мы тоже можем увидеть и услышать Великих. Они по-прежнему будут идти рядом с теми, кто искренне ищет и пытается обрести.
И я сказал себе, а что нужно сделать для этого?
О, Единоверцы!
Закройте глаза и протяните руку.
Коснитесь полы их одеяния.
Просто назовите Великих Пророков по имени,
И они обернутся, взглянут вам прямо в глаза.
И они ответят вам,
Как и в те времена,
Когда их, также как нас, окружали
Сомнения и страх,
И когда Бог Всевышний
Вел с ними неспешный свой разговор,
Нам с вами предназначенный.
Стих 1.
Вотъ посланники. НЂкоторым из нихъ Мы дали преимущество предъ другими: въ числЂ ихъ были такiе, съ которыми Богъ говорилъ, а нЂкоторыхъ Онъ возвёлъ на высшiя степени.
Коранъ. Глава 2,«Корова». Стихъ 254.
Я знаю, вы знаете эту историю,
Которую знают все люди на свете,
Которую знают и о ней рассуждают
Так компетентно, как будто сами её видели.
И даже если не видели, то знают.
Да, в общем, я не расскажу ничего нового,
Откройте самое большое издание
Той книги, которую можно найти повсюду,
И там вы ее прочтете, эту историю.
Здесь ей суждено быть снова рассказанной.
Это было давно, если я не путаю,
В стране, в которой, как и раньше идет война.
Война, в которой, вопреки воле тысяч праведников,
Разъединено то, что должно было быть единым,
И конца которой не видно.
В общем, как говорится Великими Книгами,
Жил там человек, Хороший такой, Добрый.
Обладал всеми гражданскими правами
И голосовал, говорят, на выборах Синедриона
Так, как советовали старшие.
Этот человек может даже и не человек вовсе,
Но это все думают по-разному.
В нашем простом повествовании не важно,
Кем он был и когда умер.
Про то, как и за что умер — расскажу отдельно.
Некоторые говорят, что был он пастухом,
Некоторые, что был плотником.
В общем, и это не принципиально, главное –
Он обладал специальностью,
Общественно полезной и нужной.
Однако Хороший и Добрый Человек был оригинальным,
Он однажды крепко выспался,
Встал со своего небогатого ложа и понял,
Что общественно полезная специальность не цель,
Не средство, чтобы сделать людей лучше.
Вы так сами, между прочим, не думайте,
А то, что же это такое будет, если каждый
Усомнится в своей специальности
И перестанет ею гордиться и наслаждаться, а?
Это разве порядок будет в стране, а?
Но дело в том, что этот парень был не «каждый».
Так вот, судьба распорядилась, что утром
Тем самым, о котором я рассказываю,
Когда он крепко выспался и вышел
На знойную Назаретскую улицу,
Тогда, в тот момент, Бог проходил мимо,
А может и ангел какой-то из Господней Администрации,
Министр среди ангелов по социальным вопросам.
Такое вообще случается редко,
Когда Бог ходит по Назаретским улицам.
Сейчас, говорят, он там и подавно не ходит,
Но это уже досужие размышления.
Так вот Бог сказал ему (сам или устами ангела, не установлено):
«Ну, и что Мне теперь со всем этим делать,
С тем, что Я понасоздавал тут в Израиле, да и во всем мире?»
А парень этот, Хороший и Добрый, отвечает:
«А чем Ты, Алахи, недоволен?
Вон люди с освоенными специальностями,
Вон чиновники с высоким уровнем патриотизма,
Вон священники, благие, бородатые и чтущие Тебя,
Что плохого-то под сенью пальм, созданных Тобою?
Вон, смотри, даже повстанцы есть,
Кладущие жизнь за свободу Израиля
Против римлян, которых Соединенные Штаты
В будущем объявят своими прадедушками.
Что плохого-то в мире естественном?
Знаний мало? Так Эйнштейн и Вольтер не родились еще.
Справедливости? А разве это божественное слово, не человеческое?
Ведь Ты же справедливость разве придумывал?»
Так спокойно отвечал ему Парень Хороший и Добрый.
Задумался Бог (или его ангел, смотря из какой вы конфессии).
«Да, правда, не придумывал справедливости Я.
Ведь должны быть кто-то богаче и талантливее,
Кто-то с медицинской страховкой, а кто-то нет.
Разве не от самого человека это зависит,
То, какое место он займет в мире, Мной созданном?
Должны быть иерархия и субординация,
Как у пчел и термитов, да и у всех созданий божьих.
Даже у волков тюркского племени
Есть Альфа-самцы и Гамма-оппозиция.
А чего вы хотите от людей бесхвостых?»
Это Он не ругался, не подумайте, просто задумался.
А Парень-то наш был не прост, он продолжил:
«А если так, что все хорошо в мире,
Тогда о чем ты беспокоишься, Отче?
Мог бы поехать в Европу – лучшее Свое творение,
А зачем ходить по пыльному Назарету
И разговаривать с человеком без высшего образования,
Без сана, без монашеской вериги, без трона и меча?
Что Тебе до смысла в беседе человеческой?
Что Тебе дела до детей Аврамовых?»
«Ну, про Европу ты, скажем, загнул.
Сегодня это не лучшее, что есть в мире, но Я понял –
Ты – мальчик, который видит будущее.
Я же сам так придумал, что кто-то может, а кто-то нет,
Вот ты, например, оказывается, что-то видишь.
Вот будет тебе от Меня такое задание –
Ты спроси людей – может, Я что-то не так придумал?
Может плохо это — царства человеческие?
Может, пусть какую-нибудь республику сделают, демократию?
Как у греков или у римлян, или у кочевников с их конями?
Может, пусть выбирают Иродов сами, чем Я их буду помазывать,
Даже, говорят, коммунизм бывает, где в Меня не верят.
Поэкспериментировать надо хорошенько, что ли?
А то Израиль молодой и уже сразу древний,
Даже скучно как-то получается.
Или – пусть будут какие-нибудь мировые попы –
Далай-ламы вселенские или римские,
А то засиделись тут в национальных квартирах,
Человек человеку не брат, а источник распрей.
Ты, это, давай, покумекай, как-нибудь, а Я появлюсь
И поговорим еще, если Бог… ну в смысле, встретимся»
Зевнул аватар божественный и пошел себе далее
По пыльной улице Назаретской
Той походкой, которую копируют все люди,
Уставшие от гордости и бремени власти, с одним отличием –
У людей нет Вечности.
Не знал, не знал народ, говорящий по-арамейски, что произошло!
Просто что-то почувствовал, наверное, ой почувствовал,
Потому что в этот самый миг такая грустная песня
Еврейская полетела над городом.
Пела её мама чья-то очень грустно и печально…
Именно в этот миг мир изменился
Навсегда-навсегда-навсегда.
И Парень наш Хороший и Добрый изменился
Навсегда-навсегда-навсегда.
Что же Ты, Бог беспечный, гуляющий по тем улицам, каким хочешь!
Что же Ты так, безответственно и походя,
Заронил в душу Хорошего и Доброго Парня идею,
Которую Сам недомыслил и бросил, а он загорелся!
Что видел тогда человек, кроме царств человеческих?
Что должен был сказать, этот молодой специалист
Тем магнатам, умудренным опытом —
О том, что несовершенен мир, построенный Тобою?
Ай-яй-яй, как ему убедить людей сильных и успешных?
Ай-яй-яй, что же сделал Ты с мальчиком, Отче?
Стих 2.
40 (45). Вот сказали ангелы: «О Марийам! Вот, Аллах радует тебя вестью о слове от Него, имя которого ‘Иса, сын Марийам, славном в ближнем и последнем мире и из приближенных.
41 (46). И будет говорить он с людьми в колыбели и взрослым и будет из праведников»…
…43 (48) И научит Он [Аллах] его писанию и мудрости, И Торе и Евангелию, (49) и сделает его посланником к сынам Исра’ила…
Коран. Сура 3, «Семейство Имрана».
Нет-нет, беседа этого дня так не закончилась!
Обернулся тогда Бог (или его сублимация, я не знаю точно, не помню) и сказал:
«Кстати, только три раза явлюсь к тебе Я.
Так что если нужны разъяснения там, системный консалтинг,
Задавай вопросы, Сын мой, смело. До встречи.
А Я пока полюбуюсь закатом Галилейским»
И ушёл.
Парень наш, между прочим, потерял сознание.
Ведь думаете, это просто — разговаривать с Вечностью?!
Я на вас посмотрю, если вы увидите
Хотя бы мелкого чиновника из Небесной Администрации,
Как это на вас подействует!
Он упал, и вышла его Мама и все-все-все поняла!
Нет, не заболел он падучей, нет!
Нет, не температура у него и не грипп!
Она увидела сквозь бледность сына
Знакомое лицо, говорят, её любимого…
Тут вообще много загадок в повествовании,
Так что, вы особо меня не перебивайте.
Я и сам не знаю, что она увидела и поняла,
Эта простая подданная Ирода, но она плакала.
Говорят, что водопад в наших горах – это её вечные слёзы.
А парень проснулся утром, как ни в чём ни бывало,
И пошел отрабатывать свой трудовой день, как положено.
То ли овец стриг, то ли мебель модную делал,
Но день был таким как обычно.
Видимо забыл все Сердечный.
Друг, выйди на площадь и посмотри!
Видишь, стоит здание такое с высоким шпилем?
О чём оно говорит тебе, друг, об архитектуре?
Нет, друг. Оно говорит, что не забыл Парень о беседе этой,
Не забыл. И мы его не забудем.
Потом, это только потом, будут разные люди,
Императоры, апостолы и Мартин Лютер.
Потом-потом будут мусульмане и из них выйдут другие мусульмане.
Потом-потом будет много пап, а Мама всегда будет одна.
Потом будет очень много разных событий!
Будут люди спорить о сущем и трансцендентном,
О догмах, новациях, о науке и мироздании.
Потом кто-то даже именем Парня убьет кого-то.
Потом появятся отрицающие все
И фанатики, не испытывающие сомнений.
Но, друг мой, я в этом пока не очень разбираюсь…
*******
Стих 16. Воскресшее сердце
«Расскажи, Левий Матфей, про Путь свой до дня сегодняшнего».
Э-э… не так наполнен эмоциями мой рассказ, как рассказ Кифы,
Но есть кое-что общее, вернее отличие, что ли…
Ты, Кифа, говорил, не играй с властью, с сильными мира,
А я ведь и был этой самой властью,
Теми, кто милует негоциантов или стирает их в порошок за ошибки.
Правда, началось это не сразу. Как и любой путь к власти.
Иной раз смотришь на милого мальчика и не ведаешь,
Что в будущем это будет жестокий вершитель судеб
Или тиран, или беспринципный каратель.
Что ж я так все в чёрных тонах? А может, и просвещенный правитель,
А может, мудрый судья. Суть в том, что все они
Берутся из вот этих самых мальчиков,
Глядящих на мир глазами того, кто вечно
Потом будет их путеводной звездой – белой или чёрной.
Когда шагнул я в молодость – всё у меня было,
Я имею в виду, в материальном плане.
Зажиточные родители, образование, друзья,
Любимые занятия, коллекции и интересы,
Взгляды взрослых – «хороший воспитанный юноша».
Но был один порок, никому пока не заметный,
Проявившийся в мегаполисе,
Единственном пока нам Всевышнем данном – в Иерушалаиме,
Где я учился и откуда не вернулся в дом родной.
Любил я разгульную жизнь, шумные компании, пирушки.
И странное во мне было сочетание –
По профессии будучи финансистом —
Деньги от меня утекали, как вода между пальцев,
Но… еще и притягивал я их как-то.
Вот сейчас спроси как – не вспомню.
Не то, чтобы я не работал – работал,
Не то, чтобы был глупый – нет очень талантливый,
Не то, чтобы был мотом – да нет же, просто был щедрым.
Ведь жизнь-то была прекрасна, и ее возможности
Будто распростерлись под моими ногами…
Нет-нет, азартными играми не грешил –
Так, в общем, как все – по чуть-чуть, в меру, да понемногу.
Гулящие девушки? Продажные женщины? Да нет.
Если честно, то вообще никогда. И нечего надо мной хихикать!
Просто стеснялся… Да, стеснялся, а что тут смешного?!
Но случилось у меня тогда вот что.
Эх, жалко бросил курить, а то покурил бы.
Понимаете, будучи мотом, я все же всегда считал деньги
В голове – у кого занял, кто мне должен,
Когда заплатят гонорар и так далее.
Всегда срабатывало в голове: «Ой! Остановись-ка!
На сегодня хватит. Еще не хватало, пойдешь по миру,
Перед родителями стыдно будет…
Да и перед родственниками – я в некотором роде их надежда.
А тут – на тебе, финансист, промотавший последние штаны.
Стыдно»… Ну, так о чём я? Ага, про то, что случилось.
Тогда было чу̀дное утро в Иерушалаиме.
Только птички начали разговаривать, да ослики топотать.
Люди еще не проснулись толком и потому еще не шумели,
Молча так ехали себе на работу.
А я вышел из ночного клуба и стоял ошеломленный
Красотой рассвета в любимом городе.
И тут появилась она… О, ты прекрасна, возлюбленная моя,
Ты прекрасна! Глаза твои голубиные под кудрями твоими;
Волоса твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской;
Зубы твои, как стадо выстриженных овец…
Да ладно-ладно, не буду больше петь… Просто не знаете вы,
Что звали её, это чудо утреннего Иерушалаима – Суламифь…
Суламифь, душа моя! И сейчас моё сердце поет Песнь Песней!
Ведь за столько тысячелетий
Есть ли что-либо лучше, чем то, что пел Соломон своей возлюбленной?..
Да-да, Иуда. И мытарь может быть лириком.
И вообще, что вы все время смеетесь?
Когда Кифа рассказывал, никто не смеялся!
Я что, что-то смешное рассказываю?
Вон парня в краску вогнали, бессовестные…
Ладно, продолжаю.
Как клипер «Катти Сарк», как мираж в ханаанской пустыне,
Как цеппелин на фоне голубого альпийского неба,
Проплыла она мимо меня, ошеломленного,
Рея гордо и с достоинством, как звездно-полосатый стяг.
Не наш, не наш, а американский.
Я увидел, каким я стал маленьким и страшненьким,
Неловким и угловатым, взлохмаченным
И несоответствующим случаю.
И тут чудо случилось. О, чудо!
Шея ее, как башня Давидова,
Медленно повернулась, как ось Земли,
И… она улыбнулась мне!!! Нежной и скромной улыбкой
Такой чистой невинности, что ангел,
Пролетавший мимо постеснялся
Кусков наготы, выглядывающей у него из-под доспехов!
Шея твоя, как башня Давидова, сооруженная для оружий,
Тысяча щитов висит на ней – все щиты сильных.
Да-да, щиты сильных, потому что я помчался наводить справки
И узнал, что она – не простая еврейская девушка,
А дочь начальника всех мытарей.
(Да-да, Кифа, того, кто ходил в сандалиях, как у тебя.
Это я ему подарил… Но об этом потом).
Я даже узнал, где ее окно, и теперь каждый вечер
Прохаживался мимо, надеясь опять
Увидеть этот божественный образ.
В конце концов, я подумал и решился.
А что, думаю, такого зазорного?
Парень я из семьи приличной. И благородной.
Не такой, как Бану Хашима, но всё же.
Почему просто не пойти и не представиться
Её папе, как положено? Не заявить о своих намерениях,
Ведь всё с чего-то начинается.
Ведь, несмотря на мою разгульную молодость,
Репутация у меня приличного профессионала,
Обученного современным технологиям управления.
В общем, в один прекрасный день я постучался в дом её,
В смысле отца её… И предстал перед ним, как положено…
Да нормальная у меня была рожа!… Ну, прекратите ржать, хватит!
Филипп, да скажи им, ведь ты же знаешь, что такое свататься!
Ты же не то, что эти… бродяги бессемейные…
Ай, не буду ничего рассказывать!… Ладно, ладно, прости,
Друг Возлюбленный. Просто скажи им… Ладно, не обижаюсь я.
Ну, нарушил я некоторые обычаи. Но это уж, извините,
Болезни, так сказать, мегаполиса.
В общем, пришел я утром и познакомился.
Честно говоря, боялся страшно, но не мямлил.
Мысли свои, слава Адонаи, умею выражать точно.
Вообще-то я и не сватался, просто попросил разрешения
Приглашать девушку на литературные вечера или
На концерты римских знаменитостей.
Отец её меня выслушал с достоинством, и вместо грома и молний
Спокойно так ответил: «Я вижу, что рода вы благородного,
Не такого, как Винздоры, но всё-таки.
И юноша добропорядочный, с профессией.
В общем, я доверяю вам, молодой человек».
И он позвал её в комнату. Вот тут я потерялся и проглотил язык.
Пленила ты сердце мое, сестра моя, невеста;
Пленила ты сердце мое одним взглядом очей твоих,
Одним ожерельем на шее твоем…
Это преувеличение, про взгляд – она даже не подняла очей ни разу
Во время разговора. Только тихо-тихо отвечала и кивала,
А я млел от ее голоса так, что жара иерушалаимская
Стала совсем невыносимой мне в смокинге.
Но это не было пыткой, нет! Если и так, то это самая
Сладкая мука на свете. Пусть бы она продолжалась и продолжалась!
Прошло несколько дней, и вот он я – стою и жду невесту свою
На первое свидание. План такой – идем на сладкое индийское кино
Без пошлостей, а потом гуляем по улице.
Но в тот вечер пришлось понять мне,
Как жизнь моя навсегда изменится.
Тихо и скромно вышли мы на улицу к моему ослику,
Вежливо попрощались с родителями, отъехали пару кварталов и тут…
Смотрю – девушка моя изменилась. Глаза стали пламенем,
А рыжие волосы рвались из-под покрывала на свободу
И задышали горячими волнами Галилейского моря.
«А что твой осёл такой медленный, дружок?
А не занять ли нам коня у того господина?»
«Гм…А…Мм.. коня дозволено только римским всадникам.
Ты же понимаешь, что это сословие…»
«А девушки говорят, за пару сестерциев, он покатает»
Адонаи! Пара сестерциев – это весь мой гонорар!
Но… В общем, чего не сделаешь для возлюбленной.
Хорошо, что договорился за полсестерция и за серебряный портсигар.
Да и повезло, что не получил в зубы от всадника
За посягательство на его сословный знак отличия.
Однако, дело в том, что она-то каталась, а я как болван,
Плелся сзади на ослике и думал, как она не боится?
Увидят национал-патриоты, что ж будет?
Эх не знал я… не знал… Ну, да ладно, всё по порядку.
Вот такое индийское кино.
Разозлился я сильно, но потом подумал – станет женой, остепенится.
Надо бы поскорее делать ей предложение,
Чтобы потом требовать нужного поведения.
Да и перед папой её неудобно. Узнает – мне мало не покажется.
А ведь узнает – город у нас маленький, хоть и величиной с весь мир.
Так прошла пара свиданий, но потом я проявил волю.
Вывез ее на ослике подальше от глаз и говорю,
Так, мол, и так, будешь моей невестою.
А сам заметил – уже хмуриться научился в её присутствии.
А раньше на свидания ходил, улыбался только, как истукан, не знал, что сказать.
Тут всё и выяснилось. «Прости, говорит, Левий,
(И руку мне свою на щеку положила так нежно.
Я аж вздрогнул – не так я представлял первое соприкосновение).
Но есть у меня возлюбленный, он Кананит,
Партизан он, в Беловежской пуще прячется.
С врагами-колонизаторами воюет.
Ему я отдала свое сердце, папа не знает, но подозревает.
Страдаю я сама и тебя мучаю.
Поэтому покатай меня еще на ослике,
Спой еще раз Песнь Песней, как обычно».
«Что, зло говорю я, хорошо у меня получается?»
«Нет, говорит она, это мой Денис Давыдов мне пел её.
А мы, давай, потом расстанемся, ладно?»
Я похолодел. Даже Песнь Песней украли у меня.
Это было слишком. Слова «расстанемся, ладно» уже услышал я из тумана.
Алахи! Только со мной-то не должна такая банальщина случиться!
Это ж я, как мальчишка, попался в ловушку своих чувств!
«Хорошо, говорю, отвезу тебя домой, раз так».
И едем. Молча, едем. Смотрю – слеза у неё.
Прости, говорит, не жестокая я, не издевалась над тобой.
И не вытягивала деньги. Эти всадники скоро в горы уходят.
Мне надо было разузнать, когда и куда.
Ты благородному делу помог, между прочим.
И тут взорвалось во мне всё. Я! Добропорядочный гражданин!
Соблюдающий законы своей Родины. И Рима!
Мало того, что мечту, Песнь Песней забрали,
А тут еще и спонсор бандитов каких-то!
Разве это – Справедливо!? Это – Справедливо!?
И тут план у меня возник, мне казалось верный.
Говорю ей: «Ладно, только просьба у меня есть.
Не буду на тебя женихом глядеть, дружбу мою не отвергай только!
Я тебе и помогать буду, когда потребуется».
И… она поцеловала меня! Но поцелуй был чужим!
Украденным у этого Че Гевары! И не моим!
Но ничего, подумал я. Придет время и моему поцелую.
Что, Шимеон, притих? Думаешь, я задумал зелотов сдать?
И от женишка ее избавиться? Да не-е-е-т… Почто мне эти герильерос?
Я о власти думал. Да пока не об этой… О власти над Суламифью.
Заметил я одну вещь… Я ведь психолог, вы знаете.
Когда она разведкой-то своей занималась,
То у всадника на лошади, то когда в ресторане вместе
С римлянами вина пьем, то когда в оперу их ходим,
На Бочелли или на Паваротти, то она не совсем и разведчик в это время.
Нравится ей эта мишура. Смотрит она на все и наивно радуется
Этим огням большого города. Так бывает с дочками
Не обязательно строгих, а просто порядочных родителей.
Что-то не срабатывает в воспитании, наверное?
Скорее нет – не видят девочки, что за разноцветием шоу-культуры
Стоит этот – всегда Бледный и Голодный.
И пожирает тех, кто… не готов, что ли?
Так вот, план мой простой был. Подарю я ей этот мир прекрасный
Во всей красе современной цивилизации!
С широкого плеча сброшу плащ своей щедрости к ее ногам.
А эти рампы, саксофоны и подиумы и я
Затмят партизанский имидж бродяги Команданте.
Не буду рассказывать подробно, что я совершал…
Если бы не вы, вряд ли хотелось бы мне туда возвращаться воспоминаниями…
Весь город ночной я швырнул к ногам её.
Не боялась она – ведь рядом друг (я, то бишь)!
Но я лишь бродил рядом, Бледный и Голодный.
И не был я ей другом.
Я влез в страшные долги,
Ведь мне, профессионалу, еще верили и ссужали…
А закончилось тем, что однажды я её изнасиловал.
Нет! Нет! Не смотрите на меня так! Это было не насилие!
Я просто… потребовал своего, и она согласилась.
На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя,
Искала его и не нашла его.
Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям,
И буду искать того, которого любит душа моя;
Искала я его, и не нашла его.
Я торжествовал! Вот она – победа! Вот оно торжество Справедливости!
Вот она любовь завоеванная, заслуженная, моя!
Потом я спросил её: «Любишь?
Теперь-то ты любишь меня, о, боль моего сердца?»
А она… «Нет». «Тогда почему!? …Почему!?»
А она: «Ты так добр с нами». Я!? Добр!? С нами!?
Сейчас…
Сейчас, я успокоюсь…
Я все понял тогда. Я все понял. А он смеялся —
Бледный, но Сытый и Довольный!
Сердце мое умерло тогда, мне казалось, навсегда.
Не знал я, что умрет оно не раз, но теперь я знаю,
Оно может воскреснуть. Вы представляете? Воскреснуть!
Но в тот момент я умер и превратился в мрамор.
Белый, с жесткими и больными краями.
Вот только тогда я задумал, не сердись, Шимеон, все же сдать
Влюбленную пару властям – они встречались.
Я знал, где и когда.
Только однажды я еще раз спросил её: «Суламифь!
А простит тебя твой возлюбленный?»
«Не знаю, сказала она, но это мой дар тебе,
Ведь ты единственный среди всех, кого я встречала,
Показал мне пороки мира, но оставил меня чистой и ранимой».
Вот это и доконало меня. И… Я не сдал их.
Это сделали другие наши добропорядочные соотечественники.
Из газет я узнал, что римляне поймали их в садах.
Команданте долго и жестоко сопротивлялся,
Его хотели взять живьем, но он не сдавался.
Ее убили случайно – не хотели. Толкнули в пылу боя.
Она ударилась виском о камень и тихо умерла.
Центурион орал, что ее просто должны были вручить
Живьем папаше – там все развели, что вы, мол, идиоты, наделали?
Когда Че Гевара понял, что Суламифи нет,
Он бросился с новой силой, и его пришлось зарубить.
Он так и не сдался.
Он хотел к ней.
Они слишком долго
Прожили в расставании…
….Но рассказ мой еще не закончен, вам интересно?
Тогда я умер во второй раз, но никому до этого не было дела…
У меня появилась новая проблема.
Беда, как говориться, одна не приходит.
Весь вопрос заключался в моей разгульной жизни,
Которая, понятное дело, была мне не по карману.
Я уже говорил, что влез в долги.
Друзьям, соседям, коллегам, партнерам,
Менялам, римлянам и прочим. Это как снежный ком –
Он растет и потихоньку начинает тебя придавливать.
Это страшно, когда приходится всем врать,
Изворачиваться, не отвечать на телефонные звонки,
Тихо стоять у двери и слушать, не ушли ли?
Бояться встречать друзей, знакомых, вообще людей,
Потому что каждый спрашивает – когда же?
До какой-то поры работает воображение,
Ты выдумываешь сотни причин и они – о, ужас! – им верят.
Потом причины заканчиваются,
Потом просто перестаешь быть частью социума.
Потом становишься изгоем, когда тебя начинают разыскивать.
Нет-нет! Не думайте, что все, прям, такие уж волки.
Некоторые нормально терпят. Вопрос в том, что ты уже не человек.
У тебя отсекли какую-то важную социальную функцию.
Ты даже в беседах разговариваешь сам с собой.
И мысль у тебя всегда одна, вернее ее уже нет.
Каждый день тебе кажется, что хуже быть не может,
Потом оказывается, что может.
Вначале ты веришь в провидение, потом в удачу.
Потом заканчивается вся вера. Вся.
А знаете, что самое ужасное? Что начинает умирать Совесть.
И ты это физически чувствуешь. А это ужасно.
Потому что Совесть – это вера в Бога Всевышнего.
Это не только твоя мораль воспитанная,
А еще и генная, и тобою приобретенная.
Это твое мерило самого себя, в общем-то.
Ты видишь, как начинают заканчиваться остатки твоей личности.
Но, честно скажу, я держался. Я даже пытался работать.
Но, кто же поверит финансисту, который сам человек-проблема?
Любой еврей знает, что это просто небезопасно,
Что вместе со мной они покупают мои проблемы.
И это не замкнутый круг. Это бездна. Бледная и Голодная Бездна.
Я не верю в дурацкие сказки про мышку,
Которая в крынке взбила из молока масло.
Не придет Николай Угодник с чеком,
Компенсирующим твои нечестивые долги и расходы.
А как, вы спросите, человек, все же, выживает?
А тебя покупают. Покупают, если это кому-то выгодно.
И вот однажды, в один из дней пасмурных
Отворилась дверь в мою яму. Я бы иначе не назвал тот схрон,
В котором я сам себя спрятал от мира.
И зашел, кто бы вы подумали? Не догадаетесь, отец Суламифи.
Я валялся на полу невоспитанно. А что мне еще делать?
Личности моей, как ценности, уже не существовало.
Он посидел долго и молча, потом сказал спокойно и властно:
«Левий Матфей! Мы с тобой где-то вместе в несчастье.
Но я не из-за чувств пришел сюда, не подумай.
Я все про нее знал, но надеялся, что ты окажешься умнее.
Ладно, это все дела прошлые. Я выкупил твои долги,
Но не из-за того, что я такой добрый.
Я главный мытарь Израиля, ну и всяких там царств, чем он оказался.
Ты мне нужен для работы, парень,
Работы серьезной и ответственной.
Народ плохо платит налоги и поборы.
Римляне недовольны. Ирод лютует.
Это может стать для нас геополитическим коллапсом.
Мне нужна срочно реформа отрасли.
Ты спросишь, почему именно тебя я ищу?
Мне плевать на твое образование.
Мне все равно, какой у тебя опыт.
Уж еврея финансиста я всегда смогу найти. И везде.
Я долго слежу за тобой. Твои истории…
Твоя история с долгами,
Вернее с тем, как ты выкручивался их не отдавать
Дала тебе бесценный опыт изобретения
Тысячи поводов невозвращения денег.
Ты эти способы знаешь.
Сердце твое холодно, как мрамор,
Бо̀льный краями. Тебя не проведешь, это раз.
И твою нелюбовь к национально-патриотической риторике
Я тоже хочу использовать с пользой,
Извини за тавтологию, но это именно то, что имею в виду.
Наши налоговики-евреи, наслушавшись зелотов, да и раввинов,
Как бы повежливее сказать, стали мягки к своему народу.
А не понимают одной вещи,
Что если мы не соберем доходной части бюджета,
То Рим будет недоволен.
А кто тогда нам поможет в войне с арабами?
Или с персами, говорят, такая будет?
Сейчас решается судьба, сынок.
Кто мы будем – грозным сателлитом Рима?
Или глупым изгоем, как некие бестолковые националисты?
Так что это, сынок, тебе не рабство Египетское,
Это геополитика, не путай corpus et curpus».
Ну, и как вы думаете, я не согласился?
Да я на следующий же день стоял у офиса
Национального налогового управления
Министерства бюджетно-стратегического планирования!
Вот тут-то я и расскажу вам о власти.
Что такое власть над женщиной? Да это мелкая корпускула
Великого механизма управления человеками.
Мы же у себя в Министерстве
Управляли гигантскими волнами – отливными и приливными.
Значит, если брать аллегорию из физики, власть – это свет.
И попробовал бы тогда кто-нибудь мне заявить обратное.
Мы тогда стали как могучий орден,
Стоящий между римскими и израильскими интересами.
Поэтому нас не любили обе стороны.
Интересы у них вроде одинаковые, и вроде бы только деньги с народа.
Ан нет, там очень много нюансов.
Сколько выдать на обслуживание дворца Ирода?
Сколько выдать командировочных легионерам?
Сколько на иды мартовские, а сколько на Песах?
Сколько отправить в Рим и убедить их, что больше невозможно?
Хех, да даже война с зелотами была в моих руках – это просто.
Сократи бюджет карательных экспедиций, и все тут.
Вы думаете, Пилату интересно копаться в финансовых расчетах?
Гм, правда тут возникала определенная проблема…
Ведь парень то он не простой и таланты серебра, хоть и воин,
Считает бодро даже после вакханалий утомительных.
Но и тут мы проявили смекалку.
Любой орден имеет свой тайный язык,
Только адептам ведомый, а другими чтоб был не понят.
Вот тогда-то мы и изобрели все эти секвестры, депозиты,
Акцизы, акцепты и межведомственные балансы,
(это звучит, как песня, согласитесь?) инкассы, оффшоры,
Аккредитивы, Госпланы и бухгалтерские отчеты,
Платежные поручения, кредитных менеджеров и прочие овердрафты.
Ну, какой же Пилат будет во всем этом идише разбираться?
Хи-хи, а это в основном все, либо на его родной латыни
Либо на английском
(будет такой язык, даже у жителей Иерушалаима).
Так что, власть эта всемогущая и по-настоящему страшная.
Отпустить одного бандита на Песах – это не традиция.
Это сокращение бюджета пенитенциарной системы.
Крест неси сам – это не аллегория.
Это дисциплина расходов на экзекуцию.
Ироду Антипе дали больше денег на entertainment, и он не лезет в политику!
Самое милое дело – это налоговые экспедиции!
Это когда едешь на ослике (не таком, как тогда у меня был, а на толстом, сытом),
А рядом два верблюда порожних — туда,
И прогибающихся под тяжестью – обратно.
А с тобой десяток римлян – они на воровство не падкие, не то, что наши.
Только случилось со мной однажды то, почему я здесь.
Направили меня тогда в Вифсаиды
(к тебе, Кифа, на родину).
Экспедиция легкая – надо только к каждому язык свой найти.
Но я-то уж говорил, меня не проведешь, за то и взяли.
Негоцианты то сами бегут и несут.
Раввины спорят, доказывают что-то, а я прилюдно:
«Ты что, на восстановлении Храма сэкономить хочешь, уважаемый?»
И так это вежливо и грозно звучит «уважаемый»,
Что кряхтят, а достают денежки, люди-то смотрят.
Главы кибуцев говорят, жаловаться, мол, будут.
Жалуйся, дорогой Моше, жалуйся!
Только жалоба ко мне же и придет, если царю наябедничаешь.
И если римлянам будешь писать — тоже ко мне.
Дорогу тогда и акведук за свой счет будете прокладывать, хорошо?
Ничего не хорошо, думают отцы-демократы и несут-несут денежку.
А то и скотом разным или посудой.
Можно и археологическими ценностями – их в Палестине навалом.
Хуже с простолюдинами. Бедность там страшная, что и говорить.
Но государство-то стоять должно!
Оно же вот о них заботится, все они у нас записаны в Госплане.
Так я думал тогда, овеваемый вифсаидским ветерком…
А случилось все в забытом всеми кибуце на окраине.
Заехал я в один домик – еле его заметил, маленький такой, скособоченный.
Женщина там была, уходить собиралась.
Оглянулся я … Знаете, что такое ничего? Так вот в доме было и того меньше.
Гляжу – две монетки лежат. Во-о-о-т она, еврейская закваска!
Ну и говорю, так, мол, и так, по справедливости.
Одну себе оставь, а другую мне отдай
Для государства Еврейского и империи Римской, или наоборот.
Она — в плачь, «не отбирай». Отчаянно так плачет.
Я ей лекцию – государство наше во вражеском окружении,
Бла-бла-бла, гражданская позиция, на первом месте для нас безопасность и так далее.
А она: «Будь человеком, отдай». Тут я добренького играю: «А почему?»
Не говорит, упрямая. Твердит, оставь мне ее, добрый человек, и всё.
Ну, я обученный таким делам. Оттолкнул ее, взял монетку.
И вышел с мыслями, «какой я молодец, честный, мог и две забрать,
Небось, по ведомству уже два месяца у нее просрочки.
Пеня там и все такое. Но я-то добрый – только одну забрал».
Но… почему-то запомнил я её, эту женщину.
Столько людей разных видишь в экспедиции – не упомнить всех!
А её вот запомнил.
Прошло несколько дней. Я вернулся в Иерушалаим.
Вышел, помню, днем прогуляться.
Гляжу, толпа куда-то идет. Картина знакомая.
Казнить кого-то ведут на Голгофу.
Кричат все, беснуются.
Решил я вина попить, потом догоню.
Гляжу, а кошель то дома забыл.
Мог я и удостоверение предъявить, да бесплатно угоститься.
(Вот она еще одна прелесть власти).
Ладно, думаю, я ведь честный чиновник, в другой раз.
Но тут, вдруг, нащупал в кармане ту самую копеечку,
Видно завалялась она. Да ничего —
Потом в казну доложу, а может быть и нет, что там копеечка?
Да и купил стаканчик вина себе в удовольствие.
Прохладного такого, приятного.
Потом пошел догонять процессию.
Любил я тогда смотреть на торжество Справедливости
И законности. Значит, есть порядок. Значит, есть держава.
Значит, на высоком уровне у нас государственное управление.
Сердце ведь тогда у меня было мертвое…
Это, Кифа, того парнишку казнили, зелота.
Да-да, я там тоже был рядом, но тебя я тогда не знал.
Был я, когда умер он. Только остался равнодушен к его крикам.
А потом случилось страшное.
Ты, Кифа, любовь народа к нему преувеличиваешь.
Парень-то быстро умер, не дали людям понаслаждаться муками.
Многие зеваки просто заткнулись из-за разочарования.
Но, ты прав, хотя бы не роптали и не возмущались.
Тут центурион кричит: «Родственники есть?»
Вдруг… Эта женщина выходит. Я обомлел.
Центурион: «Еще кто есть? Подходите, с креста снимите!»
Знаешь, Друг мой Возлюбленный, я думаю, были родственники.
Поверьте уж моему опыту цинизма. Просто никто не вышел,
Побоялся, что родственник террориста.
А что сейчас тяжелее обвинения в терроризме в Империи?
В общем, женщина эта плачет тихо-тихо.
Тут один солдат другого пихает, а тот ему, да не буду я снимать эту падаль!
Центурион так зыркнул на него, что тот заткнулся.
Потом солдаты помогли женщине снять парня.
Тот, который «падаль» сказал, суетился, как шакал.
И тут… Адонаи! Плачет эта женщина, с сыном прощается и…
Монетку ему на один глаз. А на второй… каме… камешек…
Меня… как током… знаете? Током электричество…называется
У нас… в кибуце…. скоро тоже… будет…
А она… камешек… Сейчас, сейчас… я усп… окоюсь…
…….
Всё-всё. Да всё я, спасибо. Вкусная вода. Наша, да?
Смотрю кругом – те, кто может дать монетку, отворачиваются.
А кто хочет, у того нету. Парень, видимо, из хорошей семьи,
Просто обедневшей… Может, и из-за меня…
Я просто… я понимаю, когда на жизнь не хватает, но когда на смерть!?
Знаете, братья. Я много долгов имел в жизни.
Честно говоря, их никому никогда не хочется отдавать.
Как говорят, берешь-то ты у кого-то, а отдаешь-то от себя.
Но тогда, в ту секунду, я так хотел! Так хотел отдать этот долг!
А у меня этой монетки просто не было по банальной причине.
Здесь, тут. В эту секунду. На Лысой горе.
Где, кто его знает, может, еще сойдутся многие судьбы.
У меня в двух стадиях отсюда вся государственная казна.
А я понимаю, что эта монетка должна была быть тут.
Или я должен был не взять ее раньше, тогда в Вифсаидах.
Или вообще не ехать в эту экспедицию!
Я потом понял, что если бы она тогда сказала,
Что монетка для сына-террориста, которого скоро казнят,
Это наоборот ожесточило бы меня.
ОНА УВИДЕЛА ЭТО ПО МОИМ ГЛАЗАМ, ЧТО СЕРДЦЕ МОЁ МЕРТВО!
Нет, Левий Матфей, сердце твое воскресло.
Так бывает, мы еще много узнаем о воскресении,
Но об этом потом. В свое время. В свой час.
Да, друг мой возлюбленный, именно эта монетка
Станет твоим долгом, но ты же понял сам,
Что не деньгами его ты отдавать будешь.
Несть такой монеты, на которой символы того Царства,
Которое есть Небесное. И нет в нем ведомства мытарей,
Что бы тебе ни говорил твой профессиональный опыт.
А пока плачь-плачь, сын мой, ибо ты скоро утешишься.
*******
Стих 24. Гора
(49)….«Я пришел к вам со знамением от вашего Господа. Я сотворю вам из глины по образу птицу и подую в нее, и станет это птицей по изволению Аллаха. Я исцелю слепого, прокаженного и оживлю мертвых с дозволения Аллаха. Я сообщу вам, что вы едите и что сохраняете в ваших домах. По истине, в этом – знамение для вас, если вы верующие!
44 (50) И в подтверждении истинности того, что ниспослано до меня в Торе, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено. И пришел я со знамением от вашего Господа. Побойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне.
Коран. Сура 3. «Семейство Имрана».
- … Истинно, Богъ есть Господь мой и Господь вашъ: Ему покланяйтесь; это прямой путь.
Коранъ. Глава 3 «Семейство Имрана».
«Люблю истину…»
Предсмертные слова Л.Н.Толстого
И вот Он вышел и поставил ногу на Гору,
Посмотрел на мир грозно,
Посмотрел на мир нежно,
Посмотрел на мир и заплакал,
Посмотрел на мир и засмеялся.
А те, рядом стоявшие, сказали:
«Сумасшедший».
А другие, рядом стоявшие, сказали:
«Да нет, просто расчувствовался человек,
Продолжай, брат, не стесняйся».
И Он плакал от обыденности даже такого
Торжественного момента.
Он радовался, что в мире
Ничего не изменилось
Уже, слава Адонаи, много тысяч лет.
Он поставил ногу на Гору,
А никто этого не заметил,
Никто не понял.
А если бы понял,
То была бы ему немедленная смерть
От созерцания Вечности.
Всех спасло от пламени того величия
Лишь то, что не сразу глубина учений
Доходит до глубины каждой души человеческой.
Не сразу, совсем не сразу…
Сколько, говорите, уже прошло – две тысячи лет?
Он был могучим и тщедушным одновременно.
Он был молчащим и разговаривающим.
Он был голосом Бога и просто соседа.
Он был рядом, вовне и внутри каждого.
Он был много «Я» и одно единственное «Я» отдельно.
Вначале было молчание, лишь ветер
Играл его темными кудрями, словно хотел смягчить
Силу ветра Божественного,
Появившегося с востока,
И окрасившего Его чело мелом бледности.
Потом наиболее нетерпеливые зашушукались,
Дескать, а где же обещанное представление?
А говорили, вроде, оригинальный человек?
Вроде скажет что-то новое,
Доселе неслыханное, неизведанное, да и на странном языке?
Только когда Его голос с легким покашливанием
Заструился вниз по горнему склону,
В ужас пришли просто зеваки, ведь
Это был поистине язык странный и новый,
Но какой-то причиняющий боль узнавания.
«С кем говорю Я?!
Только ли с иудеями, идумянами, галилеянами,
Самарянами и прочими сабрами древности?
С персонажами или человеками?
Сегодня говорю ли
Или много веков назад?!
Со знающими, много раз читавшими,
Слышавшими от священников,
Вступающими смело в спор на религиозные темы,
Защищающими свою веру,
Живыми или уже павшими за нее?
С убежденными, убеждающими, сомневающимися,
С твердолобыми фанатиками
Или любящими сердцем, разумом, образованием и традицией?
Кто вы – человеки информационные,
Сапиенсы сапиенсы, прямоходящие?
Или те, кто по образу и подобию?
Рабы добровольные или по принуждению?
Так ли закрыты ваши глаза, как кажется вам?
Так ли вам нужно Слово, как вы вопиете?
В одном ли месте у вас живут Бог и общество?
С кем говорю Я!?
В первый ли раз или в последний?
Я ли ваша жертва или вы Моя?
Ко Мне ли действительно ваша молитва
Или вас просто не устраивает порядок вещей?
Да нет, погляжу Я, человеки-то всё другие,
Но персонажи-то прежние!
Ей, тираны и деспоты, плодящие нищету духа!
Ей, поклонники тельцов, попирающие плачущих да безутешных!
Ей, злобные вои, грызущие плоть кротких!
Даже вы, ученые, пытающиеся совместить
Теорию относительности и квантовую механику.
Здесь вы, жаждущие найти М-теорию,
Чтобы, нашедши, просто поутру узреть лик Мой.
Какую «М» вы ищете? Не Мессию ли, Махди
Или Майтрею с Великим Арабом?
На каком «М» вы успокоитесь?
Каким ответом насытитесь, ужели
Вам нужно сугубо логическое обоснование единства мира?
А главное – вы надеетесь убедить в ней и Меня?
А вот и вы, организаторы мироустройства,
Не берущие в расчет милостивых, чистых сердцем!
Как изощренно вручили вы меч миротворцам!
Кого изгнали вы из вашей модели общественного согласия?
Победители, люди успеха, властвующие
Во всех современных царствах, вы здесь.
И вы, попы, апологеты и книжники,
Растаскавшие землю и род человеческий
На кунсткамеры канонов и обрядов,
На лжеобразы пророков и их последователей
И на войну между ними, и вы тоже здесь.
И вы здесь, коммунисты и социалисты всех деноминаций,
Обещавшие Царство Небесное тут на земле,
Функционировавшее бы за счет идеальной организации
Жизни человеков, но так и не понявшие,
Что «Моральный кодекс строителя коммунизма»
Разве может заменить заповеди Великих Книг
И законов Аврамовых, Ноевых
И других собеседников Всевышнего?
Послушайте, если человеки не захотели
В течение тысяч лет воплощать эти заповеди,
То по какой такой, спрашивается, первопричине
Они смогут изменить свою сущность,
Перегруженную пороками, алчностью и жаждой власти,
Только на основе директив коллективной охлократии?
То есть вы так и не нашли тот заветный рычажок,
Который надо бы повернуть внутри человеческой сущности,
Чтобы мир человеческий обрел гармонию
И стал на прямой путь, без фанатизма, а по сути.
А по сути, понимаете?
Разум и конституция оказались неспособными
Одеть в заборы людские потребности.
Да и способности то особо не увеличили.
Ведь вместо способностей процветает больше изощренность.
Вот тут, как говорится, человек прогрессирует многомильно.
Можно даже сказать ежедневно,
Замечательно используя возможности мозга и нервной системы.
Вот и вы здесь, главные действующие лица —
Зеваки, равнодушные мещане и обыватели,
Свидетели распятия пророков и телезрители войн,
Действующие лица, лишенные лиц давно,
Причем добровольно сами от них отказавшиеся.
Так вот, говорю персонажам, здравствуйте,
Но не говорю человекам.
Стою высоко на Горе, но не вижу.
Пою голосом моря и ветра, но не услышан.
Плачу и смеюсь, но чужды эти эмоции камню.
Не убий, не укради, возлюби врага и ближнего,
Не соблазняйся, останови механизм воспроизводства зла –
Какой бы изобрести еще язык,
Чтобы довести эти слова до человеков,
Которые настолько увлеклись ролевыми социальными играми,
Что прекратили быть солью земли и светом,
И окончательно стали персонажами
Теперь уже глобального информационного мира,
Толкаемого безудержно вперед на основе действительно
Универсальной субстанции – неистребимого инстинкта потребления.
О, этот порок настолько же прост, насколько ужасен!
И суть его далеко не в простом стремлении иметь что-то
В защищенной правом частной собственности.
Вы, глупцы, слова «по образу и подобию своему»
Восприняли как-то совсем буквально,
Именно образно, элементарно приписав Всевышнему
Ноги и руки, даже выражение лица скорбного.
А искать надо внутри, в сущностной плоскости,
В состоянии духа, и что же вы там найдете в себе?
Власть. Богоподобное желание власти.
Над предметом, предметами, всеобщим эквивалентом,
Над женщиной, детьми, паствой, мозгами налогоплательщика.
Над прошлым, будущим, настоящим подавно.
Все богоподобие ваше сублимировалось именно в эту
Дурную субстанцию, которая пронизывает
Весь смысл вашего существования, как персонажей,
Как цифирей статистики, как стандартных и исключительных
Потребителей всевозможных конфигураций –
От потребителя трона до потребителя милостыни,
От читателя комиксов до творца конституций».
«Хорошо Тебе говорить, возразили Ему скептики,
Умудренные опытом жизни и пылью университетов,
И что теперь прикажешь, чтобы семь миллиардов гомо сапиенсов
Рыскали по миру в беспорядочном поиске пропитания,
Подобно антилопам гну в заповеднике Серенгети?
Такие вот божьи птички, неутомленные социальной ответственностью.
Да весь кинематограф (а это, между прочим, отражение
Коллективного ума и массовых настроений)
Говорит, что люди, опущенные обстоятельствами до своей сущности
Страшны без карающей руки закона над ними
И элементарно начинают друг друга физически поедать.
Разве не так? Разве не общество держит
Эту животную сущность в клетке и не дает этой же самой
Страсти к безудержной власти
Потерять человеку последние черты цивилизованности?
Разве не нормы международного законодательства
Препятствуют тому, чтобы люди с «калашниковыми»
Просто захватили мир силой, не менее страшной,
Чем в древние и средние века, ведь мы-то не особо изменились?
Разве не голод охватит мир,
Если не сеять, не жать и не распределять созданное?
Эти идеи Кропоткина да Бакунина,
Что из анархии родится новый порядок, нами уже давно пройдены.
А их апологеты постарели и жуют попкорны
И одеваются по последней революционной моде от кутюрье».
«И не вполне справедливы слова Твои, возразили другие скептики.
Ведь мы давно ушли от самодурного управления,
Теперь общество в лице представительной демократии
Сообща решает все проблемы по договоренности,
Которую кличут общественным договором и конституцией.
И, право, а что еще лучшее придумано?
Даже божьи слуги с их поповщиной и инквизицией
Не справились в истории и отстранены от власти.
Ну, разве что, кое-где еще местами…
Но с этим мы эффективно боремся, дай время.
И вообще мы уже довольно успешно
Боремся не только с элементарным криминалом,
Но и с разными болезнями сознания, типа расизма, нацизма,
Геноцидов, холокостов и попраний прав человека.
И все это, между прочим, без Твоей особой поддержки.
Почему? Ты сказал «не суди», а как же
Добиваться людям справедливости,
Если не система судов, от районных до международных?
Как держать в узде необузданные животные натуры,
Если не карой закона, законов и правил?!
Ну, несовершенны пока эти системы,
Ну, не учитывает прецедентальное право всех нюансов,
Как Ты говоришь, человеческой изощренности.
Ну, ошибаются иногда суды, государства и даже целые нации.
Но, во-первых, даже нации уже извиняются,
За свои исторические грехи.
Во-вторых, всё же находится в развитии, в поиске.
Ну, не наше поколение достигнет совершенства,
Пусть это удел будущих детей эры Водолеев.
Да хоть Козерогов, но человечество эволюционирует.
Заметно ведь эволюционирует.
Сейчас невозможно никакой стране
Вот так просто зарезать двести тысяч повстанцев на берегу Хуанхэ,
Чтобы не получить в ответ жесткие санкции
И международную изоляцию.
Так что извини, мы свой род человеческий
Из года в год улучшаем, вон свет уже впереди.
А что бы было, если бы не организационный талант
Отцов разных наций и гениев человечества?
Ведь, к тому же, мы и не только в магазины ходим и воюем.
Вот книжки пишем, опера у нас есть, поэзия,
Классическая музыка и разнообразный фольклор.
Физиков тоже зря ругаешь, ну, подумаешь бомбу
Придумали страшную, а генетика?
А медицина, которая спасает пачками ежедневно?
Проблема-то в принципе проста – надо элементарно
Подтянуть отставшие нации до общего знаменателя
Культуры, здравоохранения и социальной справедливости,
Выровнять общий показатель в среднем по миру,
Ну не один, а там штук двести показателей.
И начнется эра устойчивого развития,
Эпоха экологии и просвещения,
Золотой Век евгеники, равного доступа к благам цивилизации,
Отсутствия войн и бережного отношения к природе.
Вот этим мы тут, Твои подопечные, и занимаемся
Из века в век, из года в год, не покладая рук.
Так что некая несправедливость сквозит в словах Твоих
По отношению к мироустроителям человеческим.
Разве ж всемирный хаос и беспорядок
Лежал в основе Твоего Великого Замысла?
И не мы ли проводники порядка Твоего на земле?
И к народным массам зевак и просто граждан
Ты проявляешь некую несправедливость.
Они ж не просто свидетели происходящего.
На них, родных, зиждутся миропорядки,
Прежде всего, легитимность нашего мандата управления.
Мы уж не говорим об оставшихся богоизбранных
И на трон, между прочим, твоей волей помазанных.
А народные массы телезрителей
Разве не наиболее истовые Твои почитатели?
Разве не их голоса еженощно и ежеобедне
Ты слышишь у себя в Небесной канцелярии?
Посмотри, храмов по миру увеличилось многотысячно,
Неофитов и богобоязненных стало больше многомиллионно.
И межрелигиозные конференции по веротерпимости
Уже стали обычным явлением в мире.
Так что же нам, обратить все эти позитивы вспять?
Подставлять терроризму и наркомафии другую щеку?
Не благословлять солдат отечества на кару язычников?
Не покупать товаров, автомобилей и недвижимость?
Бросить заботу о хлебе насущном и сломать принципы распределения?»
Вот такие слова сказали скептики,
И надо сказать они и тогда не молчали,
За две тысячи лет до этого разговора.
Это всегда был горячий спор, даже на Горе.
Только вот я опять запутался,
Что я рассказываю, тот разговор на тропе горней,
Который уже описывался ранее
Или какой-то другой? Ведь Он оставался неизменным,
А они не помню, очень трудно разбираться
В перипетиях временного измерения.
Но моя обязанность лишь запоминать и записывать,
Но никак не разбираться в парадоксах
Переплетения будущего и прошлого,
Легенд и предсказаний и что из них было первично,
Что альфа начальное и что описывает омегу грядущего,
А что осталось навеки в древней Палестине.
Только помню точно – начался дождь, от которого
Помутился синий взор рек, стекающих с Горы.
И ветер швырял горсти пыли в лица внемлющих.
Но никто не пошевелился, словно обратившись в камень,
Ведь понимал, что сегодня открылись врата тесные
Того дома, что открывается редко,
А для кого-то и вообще никогда не откроется.
И все поняли, что за холодными струями дождя
И впредь будут видеть промысел Божий
Питающий жизнью плоды добрые, как бы только их узреть?
Он покашлял немного, а небо ответило громом.
И сверкнул очами, и мы увидели,
Что с пылью горного склона уносится прочь сомнение
В том, что придется Ему совершить снова
И снова, а может и в первый раз. Но неизбежен
Тот путь, который написан не пером и не чернилами вообще.
И не мной, и не ими, и не словами, и не языком.
Неизбежен. Неизбежен. Неизбежен.
И не Господь сформулировал Ему это опять, а те,
Кто вновь окружил Гору в растерянности.
Молвил Он:
«Скажу. Слушай.
Забудьте сейчас на мгновение, что вы персонажи.
Скажу, слушай, Человек Homo.
Ты думаешь, что это случайность – Гора?
Думаешь, это просто удобный минбар для того,
Чтобы Мне возвышаться над вами?
Над вами, желающими ближнего мира?
Думаешь, это просто часть ландшафта,
Украшающая рутину повествования?
Посмотри сверху на все, что есть мир ближний.
После изгнания из Эдема способен ли ты это сделать?
А есть ли ты еще, Мой собеседник
Или уже давно я разговариваю лишь с поглотителем информации
И мелких эмоционально-физиологических развлечений?
Посмотри сверху на все рукотворное.
Ты думаешь, что Я порицаю порядок, суд человеческий,
Социальные взаимоотношения и международное право?
Ты думаешь, Я просто высказываю возмущение
Глубокой и углубляющейся социальной дифференциацией?
Ты полагаешь, что несправедливость Я вижу
Через призму того, что одному мало, другому много?
Или вообще – одному все, другому ничего?
Тебе показать суть суда человеческого через призму «да не судимы будете?»
Изволь, ты только что в Моем воображаемом глазу
Увидел сучок несправедливости упреков и суждений,
Неужели ты уже научился вынимать из своих глаз бревна?
Дескать, а я-то тут причем, так Бог задумал основы
Мироздания много-много лет назад, мне ли
Задумываться над их переустройством?
Я, дескать, не первопричина, я лишь часть Его замысла, так?
Да и не от Твоего ли имени нам объясняют попы и пропагандисты,
Как все гармонично устроено в мире ближнем?
Вопрос-то не в том, как судят, как правят и как подчиняются.
Вопрос кто это все делает, какой качественный субъект мироздания.
И ответ в том, что для Меня ты не человек «Я отдельно»,
А человек «Я все человеки».
«Я — Homo», и Мне безразлично сапиенс ты или лирикус.
Скажи фразу «Ана аль-Хакк» и собери себя воедино,
Если ты скажешь ее от себя – ты будешь сожжен огнем гордыни.
Но если ты скажешь это от всех человеков,
Ты сможешь быть собеседником. Теперь ответь,
Многие ли смогли так? Многим ли было дано?
Дано-то может быть и многим, может быть и всем,
Но кто смог? Кто смог взять ответственность,
Не погрузившись в грех тщеславия?
Вспоминай.
Так говорят: я – не все, я отдельно от мусульман, японцев и мимов,
Я отдельно от африканцев, детей и республиканцев,
Я отдельно, я за них не в ответе. Я – часть.
Я – часть от этой части, от которой я тоже часть.
Так повелось от детей Адама и Евы, а потом от детей Нуха.
Мы все более делимся-делимся-разделяемся.
Я – лишь корешок того дерева, которое вроде дает плоды,
А какие плоды, мне неведомо, я живу не в кроне, а в гумусе.
И вообще свою часть я исполняю исправно –
Между прочим, поставляю воду через ствол к ветвям,
От которых потом плоды образуются.
Я — часть процесса, может быть даже самая важная,
Но качество плода – извините, не совсем моя компетенция.
То есть я, конечно, переживаю за результаты общего труда,
Я даже могу вверх по стволу отправить контрольную комиссию,
Чтобы получить исчерпывающий отчет,
О том, урожай хороший или нет.
И я ненавижу сорняки, которые душат мою корневую систему.
Их я сам буду душить.
Ты ропщешь: «Господи! Обрати на меня взор!».
Я отвечаю «Человек! И ты тоже обрати на меня!»
А ты в ответ: «Я – часть! Я только от себя,
Но не от него, не от него и не от них!».
Я даю тебе рыбу, а ты в ответ мне язык змеи.
Ты говоришь: «Господи! Ты оставил меня! Забыл меня!»
Я молю: «Homo! А ты? Разве не разделен твой день и год
На время «для Бога» и время «не упоминай всуе»?
Разве не разделен твой день на «я праведник»
И на «ну, так устроен мир, что поделаешь»?
Можно ли служить двум господам одновременно?
Так кто же у тебя второй?
Кто забирает другие часы?
Видишь, ты и сам один разделен на части,
Будучи сам частью. Так вот ответь,
Какая часть тебя принимает решения в суде?
На троне? В любви? В магазине, в конце концов?
Или части тебя по очереди?
Ты зубришь «Отче наш» и «Аль-Фатиху» — это стихи.
Но ты устал от сложности восприятия поэзии.
Тебе подавай чёткие инструкции – «это по вере, это против»,
Чтобы конкретнее понимать раздробленность и где какая часть чего,
Кто по ту сторону рубежа, кто по эту.
Homo! Где твоя Цельность?
Скажешь, а была ли она когда-либо?
Почему ты хранишь легенды о подробностях египетских казней,
О каждой мало-мальски свирепой войне,
А про Золотой Век забыл?
Скажешь, а был ли этот век? Ну, давай начнем сначала:
А есть ли Бог?»
Тишина мягка и добра.
Ветер тихо уснул на Его плече.
Слезы скептиков обратились в соль
На лицах детских
Бородатых мужей.
Ночь умиротворенным ровным дыханием
Усыпила всех,
Кто обступил Гору.
Как-то тихо угасли споры.
Мы, хотя бы мы, слились в единое целое,
Ведь Он положил руку нам (мне) на голову,
А разве у Него их тысяча?
И тихим голосом не пророка,
Не меча небесного и не Сверхсущества,
А нашего Друга, которого
С этого вечера мы всегда будем звать Учителем,
Вообще-то он просил Поэтом,
Но нам как-то хотелось именно Учителем…
Так вот он своим тихим голосом
Сказал мне (нам) печально:
«Вот спите. Как быстро утомляешься ты, Человек.
Странно то, что спишь ты будто у тебя впереди вечность.
А Я так тороплюсь,
Словно осталось мне в жизни
Лишь несколько рифм.
Словно успеть хочу я спросить:
А зачем тебе, Homo, вопросы о мироздании?
Может, и не нужны вовсе?
Может, и Я пойду почивать
На лаврах или пусть даже в терниях?
Только тысячи голосов ежедневно,
Несмотря на спокойствие мироустроителей,
Взывают к небесам с древним плачем.
Видимо, это не воля Небес,
Видимо, это сами частицы целого
Формируют свое желание
Снова вернуться к беседе,
Снова стать собеседником,
Снова узреть то,
Чего оказались лишены на века.
Увидеть то, что мирная Палестина
Это потрясающий символ Цельности,
Это сублимация мира внутри,
А не просто геополитический акт,
Это возврат Мне некоего долга…
Что ж, сын мой,
Воспой же себя, сумевшего возродиться,
Воспой себя, сумевшего перешагнуть,
И себя же, попирающего Гору,
Рядом со Мной.
Успокойся.
Не плачь.
Ты одинок,
Но такой же и Я.
Люби.
Ведь так делаю Я.
Я ЛЮБЛЮ –
Можешь ли ты это понять!?
Не убиваю, не караю, не попираю,
Но лишь ЛЮБЛЮ.
Если Мой путь был (или будет) дорогой к смерти,
Это просто, чтобы ты понял,
Что это неизбежно.
Можешь найти
Более безответную любовь, чем Моя!?
Так чего же ты тогда еще ожидаешь нового,
Кроме завещанного ранее матерью и отцом?
Встань.
Подними ногу.
Вот Гора.
Ставь сюда.
Нет, здесь Моя, вот сюда.
А теперь заткнись,
Отдай мне пока Палестину.
Отдай – там ты уже мертв.
Либо сумей воскреснуть и забери ее себе.
Только поставь ногу на Гору.
Не умеешь?
Я жду.
Я жду. Передо мной вечность.
А что перед тобой?
Тогда хотя бы начни любить.
Помни, больше чем убил Я, не убивал никто.
И что – ты будешь Мне мстить тоже!?
Оглянись.
Найди что-нибудь, что ты приложишь к сердцу и поверишь.
Ты – должен воскреснуть, ибо ты мертв.
Тогда Я поделюсь с тобой Палестиной.
Тогда Я пойму, что ЛЮБЛЮ не зря.
А теперь оставь меня в покое,
Глупец,
Сын.
Ты заслоняешь Мне восход.
Ты заслоняешь Мне Меня.
Ты заслоняешь Мне себя».
Стих 27. Я, семья, война
Это только сатана, который делает страшными своих близких….
Коран, Сура 3, «Семейство Имрана». Стих 169 (175)
… И если бы желал Аллах,
Он сделал бы всех вас одним народом,
Но (волею своей Он хочет) испытать вас
(На верность в соблюдении того)
Что Он вам даровал.
Стремитесь же опередить друг друга
В сотворении благого…
Коран, Сура 5, «Трапеза», Из стиха 48.
«Расскажи, Иаков Алфеев, про Путь свой до дня сегодняшнего».
Я никому не рассказывал эту историю.
Во-первых, я не ахти какой рассказчик.
Во-вторых, у меня не получается рассказывать так,
Чтобы оставаться непредвзятым…
В смысле, не брать ничью сторону.
А ведь это неизбежно – брать чью-то сторону, не так ли?
Особенно когда рассказываешь о войне…
Я обещал о семье?
В данном случае это одно и то же.
Потому что есть проклятие нашего рода…
Но в последнее время мне кажется,
Что дело не в каком-то родовом проклятии.
Просто весь мир так устроен,
А вернее было бы говорить, война так устроена.
Потому что война – главный распорядитель судеб.
Война и ненависть. Взаимная злоба.
Но никак не мир.
Мир пытается что-то выстроить – постепенно, шаг за шагом.
А потом приходит война и все рушит.
Она делит мир на «наших» и «не наших»,
При этом часто случается так,
Что по какой-то причине тебе трудно самому разобраться,
Кто где, даже, несмотря на то,
Что на войне это за тебя делает линия фронта.
Иногда складывается такое ощущение,
Что мир – это лишь период тщательной подготовки
К очередной войне –
Настолько подробно в этот период
Оттачиваются те поводы и различия во взглядах,
Которым суждено в военное время
Четко и максимально ясно поделить людей
На две части, противостоящие друг другу
И смотрящие друг на друга сквозь щель прицела
Или через узкий обзор крепостной бойницы.
Вот Шимеон очень тонко заметил,
Как во время войны тысячи и тысячи индивидуальностей
Одномоментно превращаются в военную статистику,
Когда за исчезновением целых вселенных,
Коими являются личности в обычное время,
Начинают фигурировать лишь цифры состава боевых соединений,
А чаще потерь – десятками, сотнями, тысячами,
А потом и миллионами.
Тогда и складывается впечатление,
Что, мол, зачем исследовать ниточку судьбы
Лишь одного человека, какой в этом интерес,
Когда в кровавом столкновении
Гибнут многие люди, ломаются сотни судеб?
Чему могут научить такие повествования
Людей, принимающих решения о том,
Чтобы вторгнуться в соседнюю страну,
Поставить ее на колени,
Заставить ее силой принять ту точку зрения,
Которую они ну никак не хотели до начала конфликта
Признать своей, пусть даже насильно?
Когда же начинается это – «наши» и «не наши»?
В раннем детстве? Для меня тот период времени,
Который я называю беззаботным и счастливым,
Не несет воспоминаний о том,
Что у меня формировался какой-то образ врага
Или просто чужого.
Возможно, я был слишком маленьким,
Чтобы помнить какие-то слова или интонации родителей,
Способные дать мне понять,
Что в мире существует кто-то не такой, как мы.
Для меня – это радужная и размытая картинка,
Где все наполнено запахами, цветами и загадками.
Тогда мир для меня был единым и огромным,
Неизведанным и прекрасным,
Открывающим шаг за шагом передо мной свои секреты и тайны.
Этот безоблачный период для меня закончился очень быстро –
Слишком рано я потерял своих родителей.
Однажды вечером за мной не заехал в школу
Отец, как это было обычно.
Не заехала и мать, как это изредка бывало тоже.
Не забрал меня старший брат,
Как это нет-нет случалось —
В основном, когда Натан это делал,
Это означало, что вечер будет замечательным,
Потому что мы проведем его у доброй соседки Ганны Баруховны.
Это означало, что у родителей какой-то праздник
И радостью от него они поделятся с нами,
Оставив нас у тети Ганны.
И мы подвергнем ее дом и двор санкционированному разгрому,
За который ничуть не будем наказаны доброй соседкой.
Никто из них не пришел за мной в тот день.
Появились только два человека, мужчина и женщина, одетые так,
Словно их заставляли казаться детям чёрными.
Они пришли и долго-долго говорили о чем-то
Вначале с моей учительницей, потом с директрисой.
При этом последние отчего-то сокрушались
И глядели на меня странно.
Потом ко мне подошла женщина в чёрном, наклонилась
И, неприятно окутывая меня запахом резких и незнакомых духов,
Сказала, что нам нужно куда-то ехать, где мне будет хорошо.
Я спросил, а где папа и почему мы не едем домой?
Они ответили, что мы заедем домой,
Только, чтобы собрать вещи,
А папа и мама не приедут, потому что они…
В общем, мне попозже объяснят, где они.
Я был спокоен, было лишь чувство тревоги,
Если папа и мама не смогли приехать,
То куда подевался Натан?
Я проведу вечер у тети Ганны один, без него.
А это во много раз скучнее и … непривычно.
Когда мы ехали в машине с мужчиной и женщиной,
Я спросил, а Натан? Где Натан?
Они только посмотрели друг на друга и промолчали.
И только тогда мне стало тревожно –
Натан всегда говорил мне, где он будет,
Даже если убегал из дому с друзьями
По секрету от родителей.
А когда возвращался, обязательно приносил мне что-нибудь,
Либо огромное яблоко, либо кулек конфет,
А однажды даже принес ма-а-аленькую черепашку.
Всю тяжесть горя обрушила на меня, как ни странно,
Наша добрая соседка, тетя Ганна.
Когда меня привезли домой, она бросилась меня обнимать
И плакать, крича что-то непонятное и страшное.
Потом она успокоилась и рассказала мне, что произошло.
Что я теперь остался один,
Потому что машина, в которой ехали папа и мама,
А на заднем сидении мой любимый брат Натан,
Со всего ходу врезалась в бензовоз,
Мгновенно взорвавшийся, как гигантская бомба.
Я не плакал, а наоборот – успокаивал тётю Ганну.
Наверное, я толком и не понимал всего ужаса произошедшего.
Я разрыдался только позже – глубоко ночью.
Тетя Ганна осталась ночевать со мной в нашем доме,
А я не мог никак заснуть.
После долгой бессонницы, я подошел к дивану,
На котором она спала, и спросил:
Тётя Ганна, а навсегда – это навсегда-навсегда-навсегда?
Она вскочила и от испуга так сильно прижала меня к груди,
Что рыдания мои долго не могли пробиться наружу.
Наутро меня не повезли в школу.
Приехали эти двое – чёрные мужчина и женщина –
И отвезли меня вместе с тетей Ганной
В какое-то другое заведение,
Где тоже были дети, но их было меньше и они все были
Какие-то не такие, как в школе.
Я почему-то смотрел на них с боязнью,
Потому что казалось, что на них как бы написано это плохое слово:
Навсегда-навсегда-навсегда.
И от этого они стали злыми и неприветливыми.
Заведение, в которое меня привезли,
Было нашей городской пнимией,
Где дети учились, ночевали и даже проводили выходные.
Потом я узнал, что не все были как я – сиротами.
У многих родители просто жили очень далеко.
Потом я узнал и то, что пнимия
Подыскивает детям, потерявшим родителей,
Новые семьи, в которых им предоставлялась возможность
Снова стать счастливыми.
Но, прежде чем я все это узнал,
Мне суждено было прожить в этом интернате
Без малого четыре года,
Не потому что меня никто не хотел брать,
Просто тогда у всего народа было тяжелое положение.
Да и учителя пнимии не хотели раздавать детей кому попало.
Тем не менее, дети все же уезжали и уезжали,
А мне и еще паре подростков, все никак не могли
Подобрать нужную семью.
И это, признаться, начало нас тяготить,
Появилось какое-то ощущение хронической ненужности.
Тетя Ганна не оставила меня.
Она часто приезжала и приносила что-нибудь вкусное
Или из вещей. И всегда плакала, что не может
Усыновить меня, потому что сама была вдовой,
А денег она зарабатывала очень мало.
Я не буду вам рассказывать о том,
Что испытывает ребенок, потерявший родителей.
Как он скучает, как слово «мама» приобретает немую боль,
Вместо того чтобы быть мягким и нежным.
Как боишься не одиночества,
А того, что воспоминания об отце, брате, маме,
Играх с ними или просто о времени проведенном молча, но вместе,
Постепенно стираются, и именно страх этого исчезновения
Ужаснее всего, потому что вместо них ничто не приходит,
А остается безмолвное и суровое «навсегда-навсегда-навсегда».
Директриса, когда мы выходили во двор пнимии
Провожать тех счастливчиков, которые уезжали в семью,
Словно подбадривая себя и меня надеждой,
Находила мой грустный взгляд
И деланно бодрым голосом говорила, ничего, Яша Младший,
Твою судьбу просто очень тщательно
Отбирает и продумывает Адонаи.
На что я бурчал в ответ, я не Младший, я – Алфеев!
Алфеев, Алфеев, примирительно соглашалась директриса
И уже в следующее мгновение принималась за свои шумные дела.
Я не знаю, откуда взялось это прозвище – Младший.
Просто в пнимии старались не называть детей по фамилии,
Якобы с целью того, чтобы мы к ним не прикипали.
И поэтому, когда нас возьмут в новые семьи,
Мы, мол, быстрее адаптируемся к новым фамилиям.
Отсюда и прозвища – Младший, Беленькая, Мавр, даже Доктор.
Младшим я стал, скорее всего, после игр в войну,
Где мне приходилось в силу возраста изображать младших по званию.
Я так и кричал, младшие офицеры, ко мне! Или,
Я вам не мальчишка, а младший офицер армии!
Что-то в этом роде.
Но мы не обижались на эти прозвища.
Персонал пнимии был очень добр к нам.
Я не знаю, это наше природное галилейское или все люди такие?
В том возрасте мне не с чем было сравнивать.
А ужасные сюжеты о зверствах учителей в подобных заведениях
Еще не вбивались нам в голову через телевизор.
А может тогда просто мир был другим?
Может тогда он был еще добрым,
А подготовка к новой войне еще не началась?
И вот однажды настал тот день,
Когда директриса, не скрывая волнения,
Вызвала меня в свой кабинет и, сказав, вот!
Бухнула передо мной толстую папку
С досье какой-то семьи.
Я открыл ее, но от волнения не видел внутри ничего,
Хотя там были фотографии улыбающихся людей,
Их имена, написанные крупными буквами,
Истории их жизни, доказывающие право этой семьи
На то, чтобы именно меня сделать счастливым.
Я почему-то тихо заплакал, вернее даже нет, не заплакал.
Просто слезы застили мои глаза, и образы на фото
Плавно превращались в образы моей мамы, отца и Натана.
Я не знал, что сказать, но директриса словно и не ожидала от меня
Какой-то другой эмоции.
Она тихо гладила меня по голове,
А потом сказала:
Всегда, когда вы уезжаете в новую семью,
Я обращаюсь к небесам с тремя молитвами.
К Господу – чтобы дал вашим новым родителям
Мужества, доброты, терпения,
Мудрости и любви к этому малому чаду.
К Всевышнему же – чтобы дал вам сильное сердце,
Способное на детских шрамах, оставленных злою судьбой,
Вырастить дерево счастья и радости нового Дома.
А с третьей молитвой обращаюсь я
К вашим настоящим, ушедшим родителям.
Прошу их, чтобы легкими ангелами они окутали вас защитой,
А страхи, сомнения, боль и тоску сожаления
Они бы оставили здесь.
Мне.
Дни ожидания новых родителей
Не сравнить ни с чем. Нормальные дети,
Выросшие в нормальных семьях,
Никогда не поймут этого, да и не надо.
Это не те переживания, которыми ты хотел бы со всеми делиться.
Но, все же, ощущения были приподнятыми
И близкими к радости, потому что
Как-то так оказалось, что и двум другим старожилам пнимии
Тоже нашлись подходящие родители.
А чувство того, что радость свою ты делишь с кем-то
Усиливает ее многократно.
Нам ли, воспитанникам приютов и интернатов,
Этого не понимать?
Прощались мелкие и большие обиды, забывались ссоры.
Наставало время мечты и воображения.
Однако день встречи с новой семьей
Оказался совсем не таким, каким я себе его представлял.
Во всяком случае, для меня.
Рано утром мы увидели в окно,
Как подкатили к зданию интерната
Несколько машин – разного цвета, разных марок,
Свидетельствовавших о разных уровнях достатка приехавших.
Вот слегка суетливо из них вышли три пары мужчин и женщин.
Вот показалась директриса.
Сейчас они постоят минут пять во дворе,
А потом зайдут в здание пнимии,
Смущаясь, волнуясь и неуклюже уступая друг другу дорогу.
Мы знали всю процедуру поминутно.
Пройдет еще добрых полчаса на подписание всяких бумаг
И разных формальностей.
Потом начнут вызывать детей по одному,
Чтобы знакомиться.
Мы знали, что раньше они уже изучали нас издалека
Или незаметно, но знакомство организовывалось лишь тогда,
Когда они уже решились, чтобы не травмировать ребенка
Отказом после знакомства. А как же! Это вам ведь не товар.
Во всяком случае, тогда были такие порядки.
Мы с Артуром и Лерой (так звали моих подзадержавшихся друзей)
Спрятались пока в углу спортзала
И от волнения закурили спрятанную сигарету.
Это не было легкомысленным с нашей стороны –
Мы точно знали, за полчаса запах курева выветрится
И никак не повлияет на их первое впечатление,
А нам позволит на время унять нервную дрожь волнения.
Поделившись друг с другом жвачкой и капелькой лосьона
Мы вернулись в мальчишескую спальню,
Где малышня прилипла к окнам, восхищаясь и обсуждая машины.
Мы сами так делали раньше,
Но сегодня были не в силах – зачем мучить себя догадками,
Какая из них приехала за тобой?
Вот послышались шаги на скрипучей лестнице.
Все! Все в интернате знали, что это особые шаги!
Открылась дверь и зычный голос нянечки, тети Цили,
Провозгласил, Артур Фельцман, тебя приглашает директор!
Конечно, каждый в это мгновение ожидает услышать свое имя –
Ожидание ведь становится нестерпимым.
Почему нельзя было всех вместе?
Все знали – потому что дирекция
Старается сделать из этой процедуры маленький праздник,
И каждому посвятить время индивидуально.
Что ж, мы с Лерой потерпим.
Артур вскакивает, напрочь забыв о нас,
Выплевывает жвачку в салфетку, хватает свой рюкзак,
Впопыхах целует нас в щечку
И устремляется за тетей Цилей.
Мы знаем, сейчас ему не до нас.
Он смотрит вперед в свою жизнь, он уже почти видит ее,
Тогда как много лет он ее не мог видеть настолько близко.
Мы прощаем его, ведь перед отъездом
Он обязательно вернется прощаться, и Лера будет плакать,
А я хлопать его по плечу и желать ему удачи.
Мы будем говорить ему, звони, приезжай, не пропадай.
Но при этом точно знаем, что он это сделает нескоро.
И это хорошо, если нескоро,
Значит там все хорошо.
Если вдруг будет звонить и, еще хуже, появится,
То это наоборот – тревожный сигнал.
Так что, дай Бог, пусть мы еще долго не увидимся.
Как-нибудь потом мы обязательно друг друга найдем.
Обязательно! Ведь мы очень долго были семьей.
Так было бы по-обычному, но сегодня,
Когда первым назвали имя Артурика, а не мое,
Какое-то шестое чувство подсказало мне,
Что это совсем не просто так.
Я пытался все списать на волнение.
Но, признаться, у меня это никак не получалось.
Словно подтверждением моих опасений
Через полчаса прозвучало из уст тети Цили
Имя Леры Войнович. И теперь я уже был почти уверен,
Что моя дорога жизни сегодня пойдет не туда, куда я ожидал.
Теперь должны были вызвать меня, но этого не произошло.
Вот появились Артурик и Лера, они светились от радости.
Счастьем пока это было трудно назвать,
Но радостью от ожидания новой жизни – да.
Они пришли прощаться, светясь изнутри, и только тут поняли,
Что я еще в кубрике и еще так и не пошел знакомиться.
Лица их преобразила тревога,
Но я решительно запретил им тревожиться за себя,
Поцеловал, крепко обнял и, отогнав шумную малышню,
Выпроводил за дверь, навстречу новой жизни.
Немного погодя, я услышал хлопанье автомобильных дверей
И шум моторов отъезжающих машин.
Только после того, как эти шумы стихли,
Я, пересилив себя, подошел к окну и выглянул на улицу.
В полной тишине с погашенными фарами
Там стоял молчаливый темный мерседес.
Смиренно ожидая своих хозяев, он тревожно поблескивал
Яркими боковыми зеркалами, словно понимая,
Что его хозяева застряли в здании интерната
Не по очень приятной для них причине.
Каково же было мое состояние?!
Открылась входная дверь интерната,
Готовясь выпустить кого-то – может ученика?
Может нашего дворника, моего тезку Якова?
А может… Я не в силах был смотреть дальше и отошел от окна.
Что-то явно пошло не по плану. Что?!
Через несколько мгновений я услышал
Тяжелые хлопки дверей мерседеса и они,
В отличие от звуков, которые издавали предыдущие двери
Были тяжелы именно тяжестью печали.
Машина нервно завелась и нехотя тронулась.
В это мгновенье чья-то тяжелая рука опустилась на мое плечо.
Я, вздрогнув, обернулся и увидел перед собой директрису.
Она сказала неожиданно твердо: «Яша, это не то, что ты думаешь».
Она знала, что мы посекундно выучили все процедуры
И представляла, что творится в моей душе.
«Потерпи немного, сынок, сегодня все прояснится.
Я обещаю тебе, что ты очень и очень скоро
Перелистаешь страницу своей жизни,
На которой изображена наша пнимия.
Потерпи, еще раз твердо произнесла она.
А пока быстро марш в класс и упакуй свои наградные книги,
Которые ты позабыл положить в свой рюкзак».
«Я их оставляю», скорее прохныкал, чем сказал я.
«Нет, Иаков, они именные, ты должен их взять с собой,
Потому что тебе будет, кому их показывать,
Чтобы тобой гордились».
Она ушла к себе, а я поплелся в классы.
На обратном пути, проходя мимо директорского кабинета,
Я почувствовал запах сигарет, что было совсем необычно.
Не останавливаясь, я медленно прошел мимо,
Но в щель полуоткрытой двери я увидел директрису –
Она, молча, стояла у окна и курила,
А вся ее напряженная фигура говорила о том,
Что она ждет чего-то, нервно, но настойчиво.
День за окном спальни неожиданно потемнел,
И по карнизам застучал суетливый дождь.
Я прижался лбом ко стеклу и посмотрел на улицу.
Я люблю дождь, считая его видимым промыслом Божьим,
Но сейчас каждая его капля картечью ранила мою душу.
Вдруг во двор интерната, неуклюже расшвыривая брызги,
Въехало грязное желтое такси.
Грубо и резко развернувшись перед дверями пнимии,
Машина затормозила. Задняя дверь ее распахнулась,
Выпуская наружу высоченную и худую фигуру незнакомого старика.
Старик распрямился во весь рост и решительно зашагал ко входу в интернат,
И я успел увидеть, как он по-военному чеканит шаг,
Несмотря на свой преклонный возраст.
Перед входом он чиркнул взглядом по окнам пнимии,
И я почувствовал почему-то, что за эту секунду
Он успел заметить и оценить все увиденное,
Включая и мой изумленный взгляд,
По которому царапнули его серые глаза.
Обычный мерный шаг тети Цили по лестнице
На этот раз превратился в не способный скрыть волнение топот.
Грузно отдуваясь, она выпалила: «Иаков бен Халфай!
В кабинет директора. Живо!
Ну что стоишь, вылупившись?
Бегом тебе говорят!»
«Яша, Яша, что там?» — Залепетала малышня.
Они тоже знали процедуры наизусть,
А в происходящем было что-то настолько необычное,
Что они заволновались и засуетились.
«О, такси! Кто-то крикнул возле окна,
Я так мечтаю покататься на такси! Яша, это за тобой?»»
«Не знаю, буркнул я, тихо все! Уроки учите! Приду, расскажу!»
Я начал хватать рюкзак, книги, что попадалось под руку.
«Яша», услышал я голос маленького Моси,
Подающего мне оброненный впопыхах словарь:
«Яша, ты не приходи! Ты лучше… езжай домой! И не приходи…»
Я опешил, потом прижал к себе Мосю сильно-сильно
И помчался вниз. Я мог сказать ему, я желаю тебе.
Я мог сказать, я не забуду. Мог сказать, и к тебе когда-нибудь…
Но так у нас не принято.
Нельзя проговаривать будущее.
Это плохая примета. А все, что я не сказал,
Подразумевалось само собой,
Потому что речь шла для меня и для этих малышей
О Самом Главном.
А его никак нельзя проговаривать. Мечта священна.
«… признаться после стольких поисков
Ваш звонок явился для нас полной неожиданностью»,
Доносилось до меня из-за дверей директорского кабинета.
«Я сумела все объяснить той семье.
Конечно, для них это стало потрясением, но…»
В это мгновение я толкнул дверь и вошел.
«А вот и наш Иаков», произнесла торжественно директриса.
Я огляделся и в большом кресле в углу комнаты
Рассмотрел того рослого старика, которого раньше
Видел через окно во дворе.
Директриса выдержала паузу,
Словно не желая развеять мое недоумение,
А потом торжественно заявила:
«Познакомься, Яша, это твой дедушка –
Соломон Израилевич Коган».
«Гм, точнее Шломо бен Исраэль Кохан»,
Раздался надтреснутый бас огромного старика.
«Да-да, засуетилась смущенно директриса, конечно».
«Ничего, ободряюще улыбнулся ей новоявленный «дедушка»,
Я ведь тоже из старой формации, значит можно и по-старому».
Дедушка? Какой такой дедушка?!
Молнией вспыхнули и пронеслись воспоминания в моей голове.
Папа, а почему у нас с Натаном нет дедушек и бабушек?
Мои родители погибли в войну сынок,
Были замучены в Польше.
А мамины? Мамины тоже погибли в войну, сынок.
Мама, а чей это портрет? Там написано Сло-ло…Со-лом…
Соломон Коган, деточка. Моя девичья фамилия Коган.
Это значит твой папа? А почему ты прячешь этот портрет всегда?
Вырастешь, расскажу, Яшенька.
Тетя Ганна, а мама прячет портрет моего дедушки,
Ты не знаешь почему?
Ой, Яшенька, не знаю. Говорят, он исчез в войну.
Я вырасту, я его найду!
Гм… может не стоит, Яшенька?
Это почему? Почему нельзя искать дедушку?
Ой, Яшенька, злые люди говорят, что он был предателем…
Кем!?
Ой, ну не знаю, вырастешь, сам разберешься!
Я все равно его найду, если он живой!
Так вот откуда эти серые глаза! Это ведь мамины глаза!
Вот откуда такой рост – мама была тоже статной и высокой,
Такой, что весь город оборачивался, когда она шла по улице.
Ну, не такой высокой, как этот… дедушка –
Он вообще просто огромен!
Старик сидел в кресле, а его глаза
Были на одном уровне с моими,
А я ведь стоял во весь рост!
Я поежился, когда подумал, что согласно процедуре,
Меня сейчас должны оставить наедине с этим гигантом.
Но «дед» вдруг хлопнул ручищами себя по коленям и сказал:
«Ну, наверное, родственникам нет смысла знакомиться в чужом доме,
Поедем ка мы с внуком к себе, с Вашего позволения!»
Он поднялся, и директриса вдруг стала такой маленькой.
Но «дед» так галантно поцеловал ее руку,
Что она себя явно таковой не почувствовала.
«Я за все, за все Вас благодарю!
Если бы не Вы, вряд ли смог бы я найти своего мальчика.
Ведь издалека это так трудно.
В одной стране-то люди умудряются друг друга потерять!»
«Что Вы, что Вы! Это наша обязанность, работа.
А что касается… Вы знаете, я убеждена, что родная кровь
И через океан сумеет найти своих.
Всего Вам наилучшего!»
«Мерси, и Вам и Вашим детишкам премного счастья и удачи!»
Вот так, не проронив ни одного слова при знакомстве,
Я поплелся за своим новоявленным родственником.
Поддерживаемый слегка его могучей рукой,
Сел в такси и только когда «дед» назвал шоферу адрес моего дома,
Я тихо-тихо заплакал.
Дом моих родителей был похож на то,
Как выглядят декорации сказочного спектакля,
После того, как представление закончено и актеры разошлись.
Всепобеждающая пыль словно усыпила
Все то, что я раньше считал цветущим садом своего детства.
Яркие цвета были только у огромного рюкзака
И саквояжа, сложенных возле дверей.
Я догадался, что это вещи «деда».
«Заходи…», дед осекся и замолчал,
Потом сел на кресло возле входа и резко притянул меня к себе.
Его глаза были прямо напротив моих.
Я словно с разбегу нырнул в его бездонные серые глаза.
«Послушай, сынок,… э-э. Внук!
Сейчас мы с тобой одни на этом свете. Я и ты.
Больше никого нет, понимаешь?
Во всяком случае, насколько я знаю…
Я искал тебя много лет и нашел.
Теперь ты – вся моя жизнь,
Все, что мне Бог оставил на этом свете.
Если ты сейчас скажешь, что предпочтешь новую семью,
Ну, там… папа, новая мама, ты только скажи…
Я тогда… Я …»
И тут… Я не знаю, как это произошло,
Но рука моя поднялась сама собой
И коснулась губ «деда», нет – деда!
И я сказал, глядя ему прямо в серые мамины глаза:
«Нет, дед Соломон, я не хочу никого, я останусь с тобой.
И…я не подведу тебя, поверь мне».
Слезы вдруг навернулись на его глаза.
«Да ты что, Яша? Как же ты меня можешь подвести?
Это я, я перед тобой в долгу!»
Он крепко обнял меня, а я… я еще не испытывал взрослых эмоций,
Чтобы суметь их вам описать.
Только могу сказать одно –
С этого мгновения мы с дедом стали одним целым.
А что такое одно целое?
Это семья, друзья мои, пусть и неполная, но семья.
Или как дед говорил почему-то на латыни – familia.
Мы недолго прожили в родительском доме.
Я однажды сказал деду, что мне тяжело
Жить так близко ко всем воспоминаниям.
Да он и сам это прекрасно понимал.
И тогда мы переехали в Иерушалаим.
В этом городе я многое узнал про деда.
Он вначале почти совсем ничего о себе не рассказывал,
Но со временем мы стали… близкими друзьями, что ли?
И он потихонечку стал открывать завесы,
Покрывавшие тайны его жизни.
А их, по всей видимости, было о-о-очень много!
Начать хотя бы с того, что все,
Начиная с молодого лейтенанта-цвефа,
Встречавшего нас на джипе в аэропорту,
Называли его полковником
И с подчеркнутым уважением отдавали честь.
По выправке деда несложно было понять,
Что он когда-то был военным.
Но когда? Какой армии? Куда забрасывала его судьба?
Мне было многое интересно –
Откуда наши корни, какой была моя бабушка?
Как родилась моя мама? Ведь я был лишен всего этого.
Про отца и его родителей я знал все,
А о маме и ее семье практически ничего.
Единственное, что я помнил это то,
Что папа иногда шутил над ней, говоря
«Опять твое русское упрямство!»
А от моих вопросов родители отмахивались,
Вырастешь, мол, расскажем.
Но так и не смогли они мне ничего рассказать.
И если бы не дед, я так бы и остался в неведении
Навсегда-навсегда-навсегда.
Что вам рассказать про годы, прожитые в Священном городе?
Я с удовольствием ходил в школу и секцию бокса
И показывал весьма неплохие результаты.
Хотя, если честно, то скорее я старался для деда, потому что видел,
Как он гордится моими успехами.
И эта радость за гордость деда
Грела меня гораздо больше, чем мои личные амбиции.
Я спрашивал деда, а почему папа называл маму русской?
Ты что – из России?
В некотором роде да, отвечал дед, а потом говорил,
А поехали в воскресенье на море?
Я чувствовал, что настанет тот день,
Когда он мне обязательно все расскажет.
Почему-то стало понятно, что теперь не я должен вырасти,
Чтобы быть готовым к его рассказу,
А он должен приобрести какую-то решимость все поведать.
Поэтому я терпеливо ждал, уверенно предвосхищая
Рассказы, полные приключений,
Которые по своей занимательности отнюдь не уступают
Сюжетам «Пятнадцатилетнего капитана» или «Трех мушкетеров».
К тому времени кое-что все-таки стало ясно.
Дед приехал за мной из далекой Америки,
Где он служил в армии и действительно дослужился до полковника.
Он бывал в Израиле, и не раз,
Во всяком случае, его иврит был безупречен.
Что он здесь делал? И почему не навещал свою дочь, внуков?
Непонятно. Самое удивительное то,
Что на вопрос, сколько ему лет, он всегда отвечал по-разному –
То шестьдесят пять, то шестьдесят девять,
А потом щурился, хитро улыбался и в итоге вообще отмахивался.
Из его редких фотографий я понял,
Что он вышел на пенсию лет пятнадцать назад!
А что происходило с ним потом? Где?
В Соединенных Штатах? В другой стране?
Почему у него проскользнуло несколько раз –
«Когда мне снова разрешили въехать сюда»?
Почему его самая тайная записная книжка,
Вся исчерканная схемами, кружками и таблицами
Вся заполнена на арабском?
Он ее сам заполнял? Или она вообще не его?
Почему он, полковник в отставке,
Не любит военных новостей,
И всегда незаметно переключает телевизор?
Тысячи и тысячи вопросов роились в моей голове,
И все больше я понимал –
Полковник не обычный, а особенный человек.
И в чем его особенность я обязательно скоро узнаю.
И этот особенный человек – это моя familia,
Ее история и ее достояние,
А значит – моя история, мое достояние.
В одно солнечное воскресное утро
Произошло замечательное событие –
Приехала тетя Ганна, наша соседка по старому дому!
Оказывается в Израиль переехал ее сын из России.
Сейчас это обычное явление,
А раньше, говорят, евреев долго не выпускали на историческую Родину.
Теперь все кардинально изменилось,
И он приехал в Иерушалаим со всей семьей
И, конечно же, забрал тетю Ганну к себе.
Они пригласили нас в гости,
И я со смехом вспоминаю тот вечер,
Потому что они все лопотали на незнакомом мне русском языке,
А я ничего не понимал.
Тетя Ганна иногда переводила мне,
Но она так утопала в счастье своей familia,
Что я понимал – ей не до меня.
Единственное, когда мне очень захотелось говорить на русском,
Когда я познакомился с ее внучкой – Машей,
Так неумело скрывавшей за девичьей важностью
Привычную для нас растерянность репатриантки.
Однако через мгновение мы обнаружили,
Что оба можем великолепно изъясняться на английском,
И я вернулся с этого вечера счастливым по-своему.
Дед же был очень растроган общением с «русскими»,
Но я заметил, что сам он по-русски говорил не очень хорошо –
Постоянно вспоминал забытые слова.
И что самое интересное,
Напомнить их он просил сына тети Ганны… по-немецки (!),
Которым тот владел великолепно.
То, что дед знает Deutsch,
Для меня лично было еще одним большим сюрпризом.
И это только разжигало пламя моего любопытства,
А дед все никак не торопился его погасить. Эх!
Хорошей новостью было и то,
Что familia тети Ганны
Поселилась недалеко от нас,
Всего в двух кварталах, а это означало,
Что я могу видеться с Машей часто,
Как бы невзначай наведываясь проведать тетю Ганну,
Да и вообще просто по дороге в школу
Или в спортивную секцию.
«Яша, ты должен чаще говорить с Машей на иврите!»
Ой, тетя Ганна, на иврите, на идише, да хоть на языке маори!
Лишь бы просто почаще видеть эти большущие,
Будто слегка удивленные, кажущиеся слегка раскосыми из-за высоких скул,
Бездонные серые глаза!
Примерно в то же время
У меня начались эти странные сны,
Которым я никак не мог найти объяснения.
Вернее опытный психоаналитик, наверное бы, их нашел –
В моем сиротском детстве, или еще в чем-нибудь подобном.
Но я не склонен думать, что сны –
Это лишь продолжение психики индивидуума,
Его сознательного, подсознательного, опыта и еще многого чего,
Что рождают исключительно это тело
И мозг, в него помещенный.
Хотя, возможно, это всплывает информация,
Содержащаяся в генах?
А может, приходящая из прежних реинкарнаций?
Не знаю точно, но относиться ко снам сугубо физиологически
Или с точки зрения памяти, пришедшей из другого тела,
Пусть даже когда-то бывшего моим,
Я не хочу, и, думаю, это простое мнение
Поддержат многие.
Хотя, вы знаете, сны ведь так разнообразны,
Что они могут рождаться по разным причинам.
Давайте так – что касается тех снов, о которых я расскажу,
То, по-моему, они были предвестниками многих событий,
Которые мне суждено было пережить в будущем.
А значит, они пришли ко мне из других времен и миров,
Путешествуя в том пространстве,
В котором нам наяву побродить не суждено.
Или пока не суждено, кто знает?
Это были особые видения, отличавшиеся от обычных снов.
О них можно было сказать, что они яркие,
Если бы не были они наполнены суровыми красками боли.
Однажды привиделась мне, что с неистовым воплем
Врываюсь я в огромный город,
Несет меня колесница,
Запряженная двумя свирепыми боевыми конями.
Кругом пылают пожары, и гремит уличное сражение.
Гибнут воины вражеские, выглядящие чуждо.
Мои воины одерживают верх
С воплями: «Конец тебе, Вавилон! Сдохните, арамейские собаки!
Влетает моя колесница на центральную площадь.
И вот я вижу, как отбивается от моих гвардейцев
Предводитель врагов – высокий и статный царевич.
Увидев меня, он закричал: «Изменник,
Выходи на бой честный!»
Кипя нечеловеческой ненавистью, я на ходу спрыгиваю с колесницы,
Кидая повод гвардейцам, делаю им знак отойти.
Одним лишь верным и тяжким ударом
Пронзаю я грудь царевича!
В гневе прижимаю его к себе, чтобы заглянуть в его глаза перед тем,
Как он испустит дух, поверженный мною.
И в ужасе застываю…
Его лицо… Это я – тот, кого я убил только что!
Не двойник и не близнец, это я сам!
Опустив глаза, я увидел, что и на моей груди
Расцветает такая же кровавая рана,
Что нанес я вражескому царевичу!
В другом сне я видел себя, стоящим в ряду
Нескольких солдат, выставивших вперед штыки.
На мне странная форма, а кругом незнакомый горный пейзаж.
Впереди нас непонятные люди,
Одетые во что попало,
Словно их разбудили ночью и вышвырнули на снег,
Дав возможность набросить на себя лишь то, что попалось под руку.
Мы на станции. Рядом мерными выдохами стонет поезд.
Вдруг раздалась хлесткая и злобная команда,
И страшная ненависть ворвалась в мое сердце.
Я ненавидел этих людей чужого и страшного облика.
Их мужчины бросились на нас, завыв словно волки,
Но этот отчаянный вопль лишь умножил мою злость многократно.
Вот один чужак резким ударом кинжала
Разрезает горло солдату, стоящему рядом со мной.
Я делаю длинный выпад и вонзаю свой штык
Прямо в сердце страшному чужаку,
При этом вопя: «Сдохни, чеченская тварь! Сдохни!»
Чужак напирает на мой штык всем своим телом,
Словно самой своей смертью хочет устрашить меня и повергнуть.
Я вижу его лицо совсем рядом…
Боже! Это ведь я! Я только что убил самого себя!
В ужасе смотрю на свою одежду и руки –
Почему то с меня исчезла та странная форма.
Теперь на мне газыри и между ними
Расплывается огромное красное пятно крови…
Третий сон мой был полон ярчайших цветов,
Расплескавшихся по чудесным горам и долинам.
Где-то вдалеке слышен бой боевых барабанов,
Но шум войска не в силах нарушить красоту пейзажа,
Расстилающегося вокруг нас.
Нас – это меня и огромного туранского воина,
С которым мы уже много часов ведем единоборство.
Валяются сломанные мечи и копья, разбитые в щепы щиты.
Сброшены шлемы и доспехи, устало трепещут знамена.
«Ты готов к смерти, Рустам?» — вопрошает туранец
И горным барсом бросается на меня с голыми руками.
«Сдохни, тюркская падаль!» — хриплю я как хищник
И вонзаю кривой иранский нож
Прямо в сердце могучему пехлевану.
Он опадает, словно подрубленное дерево,
Но не позволяю я ему упасть –
Хочу насладиться ликом агонии
Лучшего воина ненавистного мне племени.
И… да, снова то же самое.
Я вижу, что это мои глаза угасают, как горный закат.
Это в меня арктическим холодом входит смерть,
Страшной тяжестью падает на мои веки,
Парализует руки и ноги, горло, рот и язык.
Ужасный вопль разрывает этот паралич, и я просыпаюсь.
Я рассказал об этих снах деду.
Стеснялся вначале, вдруг подумает и сочтет меня
Экзальтированной девкой, начитавшейся на ночь романов.
Однако дед слушал, молча, мои рассказы и бледнел,
Словно встречался с каким-то собственным своим кошмаром.
Обстоятельства и сюжеты снов были разными,
Но в них непременно присутствовали две одинаковые вещи –
Это чувство лютой ненависти к кому-то чужому,
А потом убийство мною себя самого.
Нет-нет, это не было самоубийством!
Не было никаких суицидальных ощущений,
Вроде прощания с жизнью или желания нанести себе
Непоправимый вред. Наоборот.
Было именно желание убить, уничтожить что-то страшное,
Незнакомое, объединенное одним словом «чужой».
Это не было и скрытой ненавистью к какому-то народу,
Потому что одной ночью
Я, будучи французом из наполеоновской гвардии,
Убивал англичанина. А уже в следующем сне
Я-англичанин пылал ненавистью и презрением к зулусу.
Дед поступил как образцовый современный родитель –
Он повел меня к психоаналитику. Даже и не к одному.
Один из них долго копался в моем детдомовском прошлом,
Разыскивая что-то, за что я мог ненавидеть какую-то часть себя,
Бороться с чем-то внутри себя.
Я дисциплинированно рассказывал все,
Сеансы продолжались, но продолжались и сны,
Словно никакой терапии и в помине не было.
Следующий психоаналитик с большой бородой и в шляпе
Утверждал деду, что это, возможно, помимо всякой психологии,
Всплывает во мне генная память
О галутах еврейского народа –
Вавилонском, персидском и так далее.
Первый сон очень напоминает гибель Валтасара вавилонского
От рук изменника Угбару, переметнувшегося к персам.
Гибель Валтасара и Его отца Набонида
Связана с концом ассирийского господства над Эрец Исраэль.
Образ персидского богатыря Рустама
Мог всплыть в связи с периодом персидского господства.
Остальные же сны напичканы аллегориями
О Шоа и остальных гонений на наш народ,
Которых много было в истории.
А убийство? Чья тогда во мне воскресала ненависть?
Возможно, продолжал последователь Юнга и Фрейда,
Это аллегория желания Иакова-прародителя, твоего тезки,
Защититься от убийства близнеца-брата Эсава,
Сам убивая которого, ты желаешь исчезновения
Всех воплощений зла и горя для народа израильского
И предотвратить многолетний галут Эдома.
Что ж… Занимательная инверсия,
Ведь разве не Эсав хотел и грозился убить Иакова?
И потом, я не убивал близнеца или брата, то есть другого человека,
Я убивал себя.
И еще — причём тут тогда чеченцы или зулусы
И масса других народов, не имевших отношения к еврейской истории?
Дело в том, что я о существовании-то большинства из этих народов
Ничего не знал, пока не услышал о них во сне.
Потом, конечно, я с интересом разыскивал в книгах и журналах
Историю этих загадочных для меня племен.
Конечно, многое имело смысловое сходство с галутами.
Например, чеченцы были сорваны с родной земли
И сосланы, рассеяны по миру.
Зулусы долгое время проживали в бантустанах,
Как когда-то евреи в гетто.
Но французы, японцы, русские, голландцы?
Какая с ними генная или ассоциативная связь?
Ввиду того, что признаков явной шизофрении
В остальной моей жизни психологи не наблюдали,
Дед тогда махнул рукой на врачей,
И сказал: «Я, по-моему, знаю, в чем причина этих снов,
Но об этом ты узнаешь попозже, Коппель».
Опять попозже. Сколько же ты можешь тянуть, Шломо?
Скольких мне надо поубивать и возненавидеть во сне,
Прежде чем ты соизволишь поделиться со мной?
Что за тайны ты скрываешь от меня?
Я ведь вижу, что не я не готов к рассказу, а ты.
Когда же ты, наконец, решишься?
Время шло, и, знаете, сны как-то пошли на убыль.
Все реже стали посещать меня ужасы войны и ненависти.
Может этому способствовало появление других чувств?
Например, моей любви к очаровательной
И сероглазой внучке тети Ганны — Маше?
От того, как я млел под воркование ее русского говора,
Из которого поначалу понимал только «Яша, Яша»?
Вот, видимо, где прятался настоящий фрейдизм,
Ведь ворчал же дед: «А глазищи-то серые,
Как у твоей бабки и матери!»
«Да и у тебя, дед, смеясь, говорил я, такие же».
Такие же да не такие, бурчал старый Полковник,
И почему-то озорно улыбался.
Но однажды настал-таки этот день,
Когда я услышал рассказ деда о своей жизни.
Вернее получилось, что это был даже не один день.
На два выходных дня мы специально уехали на озеро Кинереф ,
Чтобы бродить по Капернауму и разговаривать, слушать и снова разговаривать.
А началось все с неожиданной для меня ссоры с дедом.
Не столько неожиданной,
Сколько повергнувшей меня в крайнее изумление.
Дело в том, что я готовил сюрприз для Полковника,
И мне казалось, что услышав его, он будет счастлив.
Но, как оказалось, я ошибался.
Ежедневное обаяние того, что мой дед Полковник,
Привело меня к решению,
Что и я изберу судьбу военного
И поступлю на учебу в кадеты
Командного подготовительного колледжа.
Я гордился своим решением
И ожидал такой же гордости за меня от деда.
Поэтому когда я ему заявил, что мечтаю посвятить свою жизнь
Служению в Цва Хагана ле Исраэль ,
Я буквально раздувался от радостного волнения, но…
Реакция Полковника была неожиданной.
Его лицо вдруг резко побледнело,
Глаза расширились словно от ужаса.
Он вскочил и, молча, зашагал туда-сюда по комнате.
Потом остановился, хрипло и веско бросил:
«Никогда. Нет. Никогда».
У меня потемнело в глазах, мне стало дурно,
Настолько я не ожидал такой резкой реакции.
Через секунду эта темнота сменилась молниями.
Я, все же, проявил вначале выдержку
И, с трудом сдерживая бурю чувств,
Охвативших меня, как можно более спокойно спросил:
«Почему? Я не понимаю, почему?
Разве… это не поступок настоящего патриота и внука военного?»
«Я сказал — нет, с легкой дрожью в голосе прервал меня дед.
Потому что… Потому что нельзя,
Потому что ты не знаешь пока…»
И тут меня прорвало. Вихрем проносились в моей голове
Вопросы, чувства, возмущение, сомнения, ожидания!
«А когда я должен узнать!? Буквально заорал я.
И что я должен узнать!?
Ты так и будешь ходить и откладывать, а я!?
А мне когда принимать решения!?
Сейчас! Сейчас идет моя жизнь! Сейчас юноши принимают решения!
Когда я дождусь того, чтобы знать все то, что ты скрываешь!?
Мои родители тоже говорили так –
Вырастешь, расскажем!
Я вырос. А они!? Они могут теперь мне что-нибудь рассказать!?»
Неожиданно рыдания сжали мое горло.
Ноги мои подкосились. Я упал на кресло и зарыдал.
Где-то в углу моего мозга нерешительно трепетала мысль –
Ну, веди себя как мужчина, кадет.
Но остановиться мне не давал образ родителей,
Ушедших, скрывая от меня свои тайны
Навсегда-навсегда-навсегда.
Сквозь слезы я увидел, как дед молча вышел из комнаты,
А потом появился в дверях в своей привычной военной кепи
И с двумя нашими любимыми рюкзаками.
«Поехали, Коппель, настало время
Тебе все узнать».
Когда мы сели в машину деда,
Я, прерывая всхлипы уходящих рыданий,
Спросил: «Саба, а вот когда… ты иногда…
(я мог бы сказать, в порыве особо теплых чувств ко мне.
Но тогда я так, увы, еще не мог выражаться)
Ну…почему ты иногда называешь меня Коппель?»
Дед, не поворачиваясь, сказал:
«Коппель – это уменьшительное Иаков, по-немецки».
По-немецки!? Ну, дед, я пока все из тебя не вытрясу,
Не успокоюсь, беру Адонаи в свидетели!
Исраэль бен Арье. Судьба. Война.
Это было время, чудесное не теплой погодой в Капернауме,
Не ласковыми волнами Кинерефа,
А тем, что вокруг нас распростерся огромный мир,
А мы были рядом, близко-близко друг к другу,
Вдвоем, дед и внук, la familia.
И пусть нас мало и между нами целое поколение,
Мы здесь, идем, окутанные тайнами истории
Древнего моря Галилейского
И тайнами нашей и больше никого-никого,
Единственной во всем этом огромном мире, семьи.
Волны шелестели у наших ног,
А дед все не мог решиться начать свой рассказ.
Тогда я взял быка за рога
И задал самый сакраментальный вопрос,
Который мучил бы любого мальчишку в первую очередь.
«Саба, а правда… правда, что ты был предателем?»
Я немного напрягся, но дед на удивление спокойно отреагировал:
«И да, и нет, Коппель. И да, и нет.
Сейчас уже не время для оправданий,
Я просто расскажу тебе все как есть.
Ты уже взрослый парень и все должен понять.
Не поймешь сегодня, у тебя впереди жизнь,
Поймешь завтра. Я ничего не утаю от тебя, постараюсь.
То, что ты услышишь сейчас,
Я не рассказывал никогда и никому.
Но кроме тебя у меня и нет никого,
Кого бы я назвал своей la familia.
Поэтому ты не просто узнаешь,
Ты разделишь со мной тяжесть не только моей судьбы,
Но и всего нашего древнего рода
Рода, на котором лежит проклятие».
«Что это за проклятие, саба?»
«Прошу тебя, Коппель, выслушай все по порядку.
Потому что, если рассказать тебе сразу про него,
Ты вряд ли поймешь его суть».
«Почему ты отказываешь мне в понимании?»
«Потому что вижу, не только ты, но и весь мир
Не восприимчив к урокам,
Дающимся нам сверху.
Так что Бог дал тебе одного рассказчика – меня.
Это Его решение, а я, поступая по этому повелению,
Буду претворять Его волю».
«Значит, здесь мы не вдвоем, саба?
Значит и Бог тоже здесь присутствует?»
«Видимо, Он присутствует всегда,
Но оставь эти рассуждения богословам…
Ты спрашиваешь, был ли я предателем?
Это не совсем точный вопрос,
Но я не смогу на него ответить,
Это предстоит сделать тебе.
Я ведь всегда буду необъективен.
Но главное не то, какое ты дашь в итоге мне определение.
Главное – что хочет донести Бог до тебя?
Потому что моя жизнь прожита, а твоя еще впереди.
Я передам тебе все, что, возможно, позволит тебе
Сделать правильный выбор в жизни.
Хотя, я редко встречался с теми, кто его делал.
Чаще люди лишь следуют сложившимся коридорам,
Который открывает перед ними жизнь, не более того…
Но это и не значит, чтобы ты слушал мою историю
Как простое повествование — дескать, вот как бывает.
Во всем этом скрыт определенный смысл.
И этот смысл не только твой – но и остальных людей».
«Как же остальные люди узнают о моей судьбе, саба?»
«Ты знаешь, когда ты спросил меня,
Что «значит мы не вдвоем с тобой»,
Я, почему то, подумал не о Всевышнем.
Мне представился некий субъект, бредущий за нами,
И неумело сжимающий пергаменты, папирусы и перья,
Останавливающийся время от времени,
Чтобы записать основную мысль».
«Да, смешно, саба. Я тоже его представил!»
Мы остановились, оглянулись и представили себе
Этого типа. Улыбнулись друг другу и дед продолжил:
«Ну ладно, пусть он выполнит свою миссию, а мы свою.
Слушай мой рассказ.
Я не знаю, Всевышний ли создал ненависть на земле
Или это продукт чисто человеческого разума.
Я не говорю о ненависти к ближнему –
Это отдельная тема.
Я говорю о ненависти между народами, нациями.
Кто изобрел галуты? И когда?
Ведь ты понимаешь, что невозможно понять их происхождения
Не зная истории других племен,
Рассеянных по миру тут и там,
По всем уголкам Ойкумены?
С чего началось, тоже никто не знает.
То ли с Каина и Авеля, то ли с Эсава и Иакова,
То ли с Вавилонской башни Нимрода,
Разделившей человеческое единство с помощью простого способа —
Деления на сотни и тысячи языков?
За языками пошли обычаи, культура, история,
Правила жизни, еды, молитвы и восхваления Бога.
Но ничто так не эффективно в разделении людей,
Как история войн – гражданских и отечественных,
Между нациями, странами, империями и колониями.
Моя жизнь сложилась так,
Что разделение на нации и народы
Так и не стало для меня истинными границами различий.
Чем галуты стали для меня?
Что для меня стало всесожжением моего разума, моей веры?
Ответ — галут моей семьи –
Того единственного, что служило для меня системой координат.
Семья – это то единственное, к чему я стремился,
И чего, в силу всех обстоятельств моей судьбы,
Я оказался лишен.
Кто-то скажет, что я проявляю недостаточно патриотизма,
Что во мне нет самого естественного стержня
Главных человеческих ценностей – чувства общности нации.
Возможно. Только этот кто-то для меня не судья.
Судья для меня сегодня ты.
По иронии судьбы, представители нашей семьи
Обладали потрясающей способностью быстро изучать
Разные языки так, что мало кто мог заподозрить в нас,
Что мы не являемся их соотечественниками.
Здесь проклятие башни Нимрода нас не коснулось.
А в остальном…
Я с первого дня был рожден в ненависти,
В одном из ее самых воплощенных кошмаров.
Ты прав, заметив, что я путаю часто дату своего рождения.
Это не от нормального течения событий моей жизни.
Я родился в тихом еврейском местечке
Возле Житомира, тогда на территории Советской России.
Вообще-то это Украина, но в то время это приобрело новые смыслы.
Это был 1922-й год, когда Гражданская война
Уже подходила к концу.
Первая конная армия, отличившаяся не только
Выдающейся боевой историей, но и погромами евреев,
Уже была расформирована.
Однако отдельные подразделения ее еще выполняли
Кое-какие боевые задачи или, скажем, зачистки,
Как это принято говорить сегодня.
К чести Первой конной погромщики были осуждены и расстреляны,
Но когда в стране только-только закончилась гражданская война,
Никто не мог утверждать,
Что порядок наведен полностью и безвозвратно.
Еще не остыли пожары от разгрома махновцев
И русско-польской войны.
В окрестностях Житомира еще действовали разные банды,
В политических убеждениях которых
Трудно было разобраться местечковым евреям.
Знали только одно – надо выжить.
После стольких лет белогвардейских, польских,
Красноармейских и махновских погромов, надо было выжить.
Вот и в тот день, когда я должен был появиться на свет,
В нашу маленькую деревню прибыл отряд Красной Армии,
Преследовавший очередную банду.
Жители, евреи и украинцы, встретили красноармейцев
Как положено – хлебом и солью, накрыли большие столы,
Принесли горилки – а какое без нее гостеприимство?
Закатили радостный праздник, понимая,
Что это власть пришла наводить порядок.
То тут, то там разносилось «отведайте, товарищ красноармеец, пирогов»,
«Вот свежее молоко, вот блины, мясо»,
«Бог вам в помощь, найдите бандитов, сил нет их терпеть».
Захмелели комиссары и казаки, расслабились.
Но тут страшный крик разрезал красоту празднества.
На площадке перед зданием местного Совета
Показался комиссар с парой солдат,
Волокущих двух человек в одних подштанниках,
Перевязанных и окровавленных.
«Раввин! – страшно кричал комиссар, — Ефраим, старая сволочь!
Где б…я., раввин!?» Все замерли от ужаса – что-то происходит плохое.
Старый Ефраим вскочил из-за стола с дрожащими руками.
«Пан… товарищ комиссар, это… это не то, что вы думаете!»
Комиссар, не останавливаясь, морским прибоем
Налетел на старика-раввина.
«Кто это, мать твою, старый жид!?»
Быстро-быстро все поняли, что это — раненые бандиты.
«Товарищ комиссар, лепетал ребе, посмотрите на них.
Это ж просто умирающие дети. Умоляю, товарищ комиссар».
Действительно, парням было от силы девятнадцать.
Слезы и сопли на их лице смешивались с кровью.
Вчера только эти «воины» гарцевали на рослых «донцах»,
Играя шашками и бряцая патронными лентами,
А сегодня были подобны нашалившим подросткам.
Но это не были подростки. Это были воины, враги,
Может, вчера они застрелили этого Петра Мироныча и Антошку,
Которых поминали только что красноармейцы.
Это был враг. Кто бы возражал?!
«Ты убил нас только что, ребе», обреченно обронил кузнец Рувим.
И он оказался прав. Вынув шашку,
Комиссар наотмашь зарубил бандитов.
Глаза его горели нехорошим огнем.
Ужасным голосом смертельной угрозы он зашипел на Ефраима:
«Врагов революции скрываешь, жидяра?»
Ефраим пал на колени. «Товарищ комиссар, това…,
Это же посмотрите, раненные дети, проявите мило…»
Страшный удар шашки прервал его лепет.
И жизнь. Навсегда.
В ужасе застыли и красноармейцы.
Вы когда-нибудь пребывали в ощущении,
Что страшное свершилось, а обратного пути нет?
Откровенный самосуд свершался на их глазах.
Как должна была отреагировать их душа?
Адонаи знает, если бы эта власть тогда не была еще юной,
Может быть, они остановили бы своего собрата.
Но тогда этого не случилось.
Не научились еще юные сыны революции
Между законом и воинским братством выбирать закон,
Правильно возводить границы между чужими и своими.
О, Адонаи, а в этом ли умении сокрыто правильное решение!?
Захмелевшие, да что там, пьяные красноармейцы,
А это были не просто воины с картинок,
А люди, прошедшие ужасы Гражданской войны,
Во время которой им приходилось выжигать контрреволюцию
И среди своих братьев, близких и родственников,
За секунду вспыхнули огнем праведного гнева.
Что для них была жизнь евреев-предателей?
Коллаборационистов, прячущих их смертельных врагов?
Кто-то опрокинул стол и начался ужас.
Осознание того, что обратного пути нет
Как-то странно приводит людей к необходимости
Многократно усилить свой грех, словно,
Если перепрыгнуть границы рассудка,
Можно перепрыгнуть и ценностные грани,
Сбежать от них за ураганом собственного гнева.
Быстро вспомнила профессиональная рука воина,
Что такое убийство. И кара.
Не от понятия «кара Божия», а от слова «каратель».
В общем, в несколько мгновений
Маленькое местечко встретило свой Армагеддон.
Легко, как перышко, взлетающее к небу,
Вознесся в кровавом небе привычный для этих краев призыв:
«Жидов бей! К ответу предателей!»
Думаете, красноармейцы были другими, нежели белые?
Зачем спорить, зачастую это те же самые люди,
Которые просто перешли на сторону красных.
Но разве война годами улучшала их дух?
Разве идеи революции одномоментно очистили их
И превратили вот так сразу
В апостолов пролетарского интернационализма?
Пусть в мифах живут потомки,
У нас же не было ни единого шанса в них жить.
И потом, что бы ни говорила та или иная власть,
Какой-либо нации, что она создала новый формат
Межнациональной любви – это всегда гм… большое преувеличение.
Мой отец не принимал участия в празднестве
По одной уважительной причине –
В одной из хат рождался я.
Когда он услышал выстрелы и крики,
То выскочил на улицу, а затем попытался прикрыть ворота дома.
Но, попав под нагайки казаков,
Упал и пополз к ручью.
И тут случилось непоправимое – моя мать,
Не понаслышке знавшая о погромах,
Сразу осознала происходящее
И попыталась выскочить из хаты, спрятаться в сарае.
И это через несколько мгновений после моего рождения!
Страшным усилием она завернула меня в тряпье
И, схватив привычным движением теплые одеяла и одежды,
Вышла во двор. Вот там во дворе
Ее и настигла красноармейская шашка.
Не все красноармейцы были охвачены этим пьяным
И кровавым безумием.
Это и спасло мне жизнь.
А спас ее пожилой бородатый казак,
Увидевший, как маленькое дитя
Хрипит и хнычет возле поверженного тела матери.
«Ироды, нехристи, что ж вы творите-то, а?
Остановитесь же, это не по-революционному, не по-нашему!»
Отчаянно кричал он, но с безумием ему было не справиться.
Оглянулся казак и, увидев полыхающую деревню,
Принял решение. Он схватил комочек тряпья и плоти
И вскочил на лошадь. «Не дам, суки,
Не дам дитятко убить, звери!».
Вот так, не успев родиться,
Я фактически в тот же день и час
Оказался в воинском седле.
Вот так родился я на границе ненависти и
Человеческого милосердия.
Так начался мой век.
Кого мне надо было любить, а кого ненавидеть?
Безответственного, но милосердного раввина,
Глупость которого обрекла деревню?
Озверевших русских или русского,
Которому я обязан тем, что жив и сегодня говорю с внуком?
Кстати, отец не был деревенским.
Просто он был родом из этого местечка
И почему-то захотел, чтобы я появился на свет именно там.
Что за ненужный символизм?
А был он примерным житомирским мещанином
С очень уважаемой профессией почтальона.
То ли в силу работы, то ли в силу наших родовых особенностей
Он в совершенстве говорил на польском, немецком,
Украинском, французском и конечно на русском языках.
После трагических событий в деревне
Отец, выжив в той резне, отправился в Житомир по следам того эскадрона.
Наверное, профессиональная педантичность
Не позволяла ему поддаться эмоциям и потерять
В пучине времен и событий
Единственного сына.
Он прибыл в Житомир и обратился в местный ревком.
Там он узнал, что, оказывается, никакого погрома и не было,
А была спецоперация по ликвидации бандитов,
Окопавшихся в деревне и, при попустительстве местных,
Оказавших яростное сопротивление войскам Красной Армии.
И эти выродки-бандиты, убегая от красноармейцев,
Убили большое количество местного населения.
Но их обязательно постигнет суровая революционная кара.
Где этот эскадрон? Он убывает на Туркестанский фронт.
Если успеете – на вокзале можете еще их увидеть.
Отец отправился на вокзал
И в толчее отправлявшихся на Запад и на Восток
Войск, людей, беженцев, мигрантов
Узнал, что эскадрон такой-то еще не отбыл.
Он где-то поблизости от вокзала, его можно разыскать при желании.
Товарищ Сруль (так звучало в Польше и Украине имя Исраэль)
Немедленно отправился на поиски эскадрона.
Но как найти того неизвестного казака,
Который спас его ребенка?
Ни имени, ни фамилии, просто пожилой красноармеец с бородой –
Все, что известно о нем.
Что предпринимает мой папа? Как ты думаешь?
Он приходит в ревком и… записывается в этот эскадрон!
«Товарищ Сруль, недоверчиво смотрел на него
Член ревкома, товарищ Беркович.
А вы… Вы вот так действительно вдруг прониклись
Революционными идеями настолько,
Что готовы проливать за них кровь?»
На робкие кивания отца комиссар отреагировал неожиданно.
Он вдруг резко вскочил и схватил отца за грудки.
«Я знаю вас, жидят поганых, сука!
Если ты что-то задумал, польский шпион,
Я тебя и в Туркестане достану, понял?»
Потом вдруг резко отошел и поправил гимнастерку.
«А вы, товарищ Беркович, разве не еврей?» —
С ужасом бросил вызов отец члену ревкома.
Но тот вдруг весело рассмеялся.
«Товарищ Сруль, Советская власть интернациональна по своей сущности.
Скоро исчезнут понятия великоросс, малоросс, казак.
Да и жид, в общем-то, тоже… А теперь пшел вон, красноармеец Сруль!»
Вот с таким пролетарским благословлением
И отправился мой папа
На Туркестанский фронт.
Пока ему выдавали гимнастерку и ружье
Он быстро разыскал того казака,
Который жидятку спас. Это был красный казак Семен Митрофанов.
Вы думаете, отец сразу бросился к нему с расспросами?
Как бы не так. Если бы новые однополчане узнали,
Что он свидетель той кровавой бойни в деревне,
Он не то, что до Туркестана, он бы до следующей станции живым не доехал бы.
Каким бы юным ни был в то время Советский закон,
Но с убийцами и погромщиками он тогда старался
Расправляться коротко и сурово.
Достаточно было одного свидетельства отца в ревкоме.
Поэтому, как он узнал позже,
Ни одного свидетеля в живых не оставили красные конники.
Отца спас тот неизвестный ручей.
Или судьба, готовившая еще много испытаний?
Ты спрашиваешь, как я, новорожденный, выжил
В таких суровых военных условиях?
Войско, Коппель, это не просто толпа солдат.
Это обоз, кухня, медчасть – что означают эти слова?
Женщины – вот, что это означает.
И это не сегодняшние девушки ЦАХАЛа,
Которые с автоматом идут на побывку домой.
Это женщины, потерявшие дом в огне Гражданской войны
И кочующие за войсковой частью,
В которой служат их мужья, сыновья,
А может и женихи. Так вот грудями вот таких женщин
Я и был спасен от неминуемой смерти.
Ведь я и человеком-то особо тогда не мог называться,
Но берегли меня красноармейцы так,
Словно я был живым напоминанием их греха убийства.
Говорят, любой человек стремится к искуплению,
Возможно, это и спасло меня, твоего деда.
И, знаешь, имя-то мне дал не отец, а они,
Уничтожившие мою семью красноармейцы.
Говорят, за круглые щеки и тихое поведение
Они прозвали меня Соломоном. Почему?
Этого отец мне не успел рассказать.
Заметь, не русским именем, не православным
И не ново-пролетарским, а еврейским. Так-то…
Говорили, вот вырастешь, будешь жить в новом Царстве,
Где нет войны, мы сейчас за тебя пока повоюем.
А ты будешь строить новое общество,
Где несть ни эллина, ни иудея,
Где все равны и главным чувством между людьми
Будет не просто любовь, а высокая гражданская любовь.
Где нет буржуев и их корыстных интересов,
Нет жестоких властителей, и все станут единым народом.
А потом этот единый народ
Объединит весь мир, и никогда-никогда-никогда
Не будет плакать под грохот орудий
Маленький мальчик из местечка близ Житомира.
И все другие мальчики и девочки тоже.
Вот такими странными были эти революционные красноармейцы,
Убивающие, карающие, но верящие в светлую мечту,
В жертву которой они приносят себя, свою душу и жизнь.
Но, это все должно было произойти только в будущем,
А сегодня они не отказывали себе в том,
Чтобы попотешаться над моим еврейским батюшкой,
Обзывая его то Сраль, то Засруль,
То вообще «красножидец сраный».
Видимо, во время долгого пути в далекий Туркестан
Больше нечем было заняться.
Однако папаша мой был не прост.
Это пока ехали в поезде, он позволял над собой потешаться.
Когда же поезд остановился на границе Великой Степи,
И часть начали разгружать,
Он смог показать, на что способен житомирский почтальон.
На станции тогда толпилось много киргизов
(тогда так называли казахов).
Красноармейцы, в большинстве своем казаки,
Столпились возле одного,
Державшего под уздцы коня сказочной красоты.
Таких редко кто видел раньше.
Казаки и туркмены смеялись и о чем-то спорили.
Один казак вскочил на ахалтекинца,
Но тот так резко взбрыкнул,
Что сын врожденного племени всадников не удержался
И под хохот товарищей слетел с седла,
Уронив папаху. Туркмены снисходительно зацокали.
И тут мой отец, пока шум да толкотня,
Лихо взлетел в седло и пришпорив черного дьявола,
Понесся в степь под улюлюканье и восхищенные крики толпы.
Тут нет никакого секрета.
Просто почтальонам часто приходилось доставлять
И срочную почту, причем в любую погоду и любое время…
С тех пор сослуживцы зауважали красноармейца Сруля
И сменили все прозвища на уважительное Арѐвич.
Это от фамилии отца – бен Арье.
Об этом, Коппель, об этой фамилии, будет отдельная история,
А пока продолжим следить за судьбой Исраэля Аревича
В дальнем, неизвестном краю Туркестан.
Ну, и за моей, между прочим, тоже.
Верховые таланты отца тут же были замечены командирами.
Комэска Заболоцкий, когда узнал, что Исраэль
Был почтальоном, сразу определил его в адъютанты.
Видишь, Коппель, как важно обладать знаниями и профессией.
Должность адъютанта, а точнее в Красной Армии ординарца,
Обладала одним очень серьезным достоинством.
Проживая в командном вагоне, ты не был так ограничен дисциплиной,
Как остальные бойцы, поэтому
На каждой остановке отец имел возможность
Забегать в вагон медсанчасти и видеть меня.
Какую же ревность он испытывал,
Когда прибегал к медикам Митрофанов!
Тот суетился, поругивал девушек и баб,
Сам мыл и, если удавалось, кормил Соломончика,
То есть меня, а отец был вынужден
Молча наблюдать за всем этим.
Однажды он взял меня на руки, и я заверещал, потянулся к нему.
Это ж надо, как нацию свою чует, запричитали бабы.
Семен Тимофеич с ревностью сразу забрал меня у отца.
«Нэ йды к дядьке, казачок, дядька смэрдячий»,
Укоризненно зыркнув на отца, проворчал казак.
Знал бы он, что творилось в душе у Исраэля Аревича!
Нам вообще трудно понять сегодня,
Как он мог молча ехать в одном вагоне
С убийцами своего рода, своей семьи.
Нам этого не понять и не узнать,
Но мы можем точно сказать, что заставило его вести себя так.
Война. Война, которая не проходит лишь по линии фронта.
Война, рассекающая судьбы жителей городов и деревень,
Война, как образ жизни и образ мыслей.
Поезд нес кавалерийский полк и эскадрон отца
Вглубь казахстанских степей, куда-то на юг.
От вида плоской и желтой степи приуныли красноармейцы.
Но Исраэлю Аревичу почему-то нравился этот пейзаж.
Он говорил мне почему.
Эта рыжая пустыня и мелкосопочник,
Разрезанный местами руслами пересохших рек
Так напоминал ему то, чего он никогда не видел,
Но что показывает каждому еврею его кровь –
Пустыни его родной ханаанской земли.
Пусть она меньше во стократ этой бескрайней равнины,
Но часто кажется, что именно здесь проходили пути
Великих пророков, бегущих, стремящихся и ищущих племен Израиля.
Словно подтверждением отцовских грез
Появлялись в жарком мареве этого сурового края верблюды.
Заметно проще стало ординарцу и с «еврейским вопросом» —
Большинство командиров являлись соплеменниками,
А уж комиссары – то те практически все.
Хотя говорить вслух об их национальной принадлежности
Было не принято –
Все эти люди считали себя частью новой нации.
Хотя, заметил наблюдательный отец,
Казаки и русские не особенно понимали, как это –
Они вдруг станут кем-то другими?
Однако все национальные признаки уверенно заменялись словами
«Товарищ», «красноармеец», «боец революционной армии» и прочая.
Надо сказать, что комиссары по своей убедительности и настойчивости
Во многом превосходили раввинов-проповедников.
Они были столь убедительны,
Что отец прибыл в Туркестан вполне убежденным красноармейцем.
На одной из станций часть переодели в новенькую форму
Туркестанского фронта, дооснастили полк вооружением.
Оснащение и форма очень убедительно говорили о том,
Что новая армия, а значит и новая власть,
Состоялись и прочно стоят на ногах,
Причем не только на военной ноге,
Но и на опоре революционного
Интернационального убеждения,
Под обаяние которого попадали и русский, и еврей
И жители далекого, а теперь близкого Туркестана.
На станции в Перовское полк встречал ни много ни мало
Командующий Туркестанским фронтом Василий Иванович Шорин.
Из штабных разговоров отец понял,
Что по окончательному прибытию на место
Полку предстоит выступить против армии
Басмачей под предводительством некоего Энвер-паши,
О котором даже красные командиры говорили
С каким-то видимым уважением.
Это означало только одно –
Предстоят серьезные сражения с сильным противником.
Дальше полк должен был двигаться своим ходом на юг,
В сторону земель таджиков и узбеков.
Однако, покидая казахский край,
Полку предстояло выполнить еще одну задачу,
Решение которой первоначально выглядело странным
На фоне нового безупречного оснащения и перевооружения.
На вопрос комполка, как обстоят дела с запасами провианта,
Представитель штаба фронта странно усмехнулся
И нервно бросив: «А вот вам товарищ Зиновьев все объяснит
И покажет», отвернулся.
Комиссар Зиновьев приказал отрядить для экспедиции
Две дюжины бойцов, в состав которых попал и Исраэль.
Командиры предположили, что отряд должен совершить
Конный бросок к каким-нибудь удаленным складам
Или к армейской продовольственной базе.
Но все оказалось не так.
Вечером отец еще раз ходил к санитаркам и поварихам,
Чтобы помучить себя зрелищем, как его сына,
А, если уж быть точным, сына полка,
Ласкают, кормят и лелеют бородатый и заботливый казак
И чужие женщины.
Наутро же он, Митрофанов тоже,
И отряд из двадцати пяти конников,
Захватив с собой три тачанки,
Предварительно сняв с них пулеметы,
Отправились в глубину еще не проснувшейся казахской степи.
«Здесь пополним запасы продовольствия,
А здесь доукомплектуемся лошадьми»,
Тараторил опытный Зиновьев нашему комэска,
Тыча пальцем куда-то в карту.
Удивительно было, как он ориентируется
В этих равнинах и бугрящихся изредка
Серых холмах.
Всю дорогу Зиновьев болтал без умолку
О дурацкой жаре, о диких нравах киргизов,
О том, что он родом из Украины,
Как большинство из бойцов отряда,
Что скоро его должны перевести обратно на запад.
Отец не слушал его,
Погрузившись в горькие воспоминания о прошлом.
Возле одной цепи холмов Зиновьев резко остановился.
«Так, бойцы, слушьте все сюда,
Сейчас мы будем действовать согласно указу
Туркестанского Центрального Исполнительного Комитета
И приказа командования фронтом
О продовольственном обеспечении Красной Армии.
За этим холмом расположен аул
Басмаческого недобитка Даулембая.
Это даже не кулак, по-ихнему бай,
Это серьезный контрреволюционный элемент,
Вероломно саботирующий политику военного коммунизма.
А потому, товарищи, его имущество подлежит конфискации
В пользу революционного народа
В лице доблестной Красной Армии, вопросы есть?»
Он говорил это так, словно рассказывал планы курортного отдыха.
Исраэль увидел, как нахмурились казачки.
«А разве не силами народной милиции
Проводится такое?» — Вскинул брови комэска Заболоцкий.
Зиновьев рассмеялся так, будто казак остроумно пошутил.
«Да какая народная милиция, родной! Какого народа?
Это же киргиз-кайсаки! Среди них каждый второй бандит.
Басмач! Они днем толпятся у юрты Совета,
А ночью режут глотки красноармейцам!
А этот Даулембай вообще жирует,
Когда его соплеменники дохнут от голода.
Голод в Степном краю, вы понимаете это?!
Но этот голод не должен помешать нам
Окончательно разгромить басмаческую гадину.
Да и вообще товарищ Тоболин сказал,
Что это племя не выживет в борьбе за коммунистические идеалы,
Поскольку не сможет выбраться из своих феодальных пережитков.
Так! Хватит! Вы здесь, бойцы, не для того, чтобы
Обсуждать приказы командования!
Или вам объяснить по-другому?»
Зиновьев достал свой вороненый маузер
И потряс им в воздухе.
«Ты маузер-то убери, комиссар! —
Вежливо и угрожающе процедил Заболоцкий. —
Говори, как это… как это у вас тут делается.
Отряд к бою! Развернуться в две линии по фронту!»
В гробовом молчании красноармейцы перестроились
И двинулись к вершине холма.
Вот так как я тебе, Коппель, рассказываю
И мне поведал старый Исраэль об ужасах того раннего утра.
Дома у казахов – это войлочная юрта.
Отец видел перед собой, как рассыпались эти юрты
Вдоль ручья, прятавшегося за линией холмов.
Мирно дымили очаги, пахло чем-то вкусным, новым,
Но тем, что, как ни странно, не казалось чужим.
Тихо приближался отряд к аулу.
Вдруг страшный женский крик, полный ужаса, разорвал тишину:
«Ойбу-у-уй! Кызыл аскер! Кампеске-е-е-е-е!»
Аул сразу пришел в движение.
Стали выскакивать полуодетые дети, женщины,
Мужчины выбегали, на ходу опоясываясь.
Зиновьев не опускал поднятого маузера.
Отряд медленно выехал на площадку перед большой юртой,
Которая, по-видимому, была центральной –
Над ней висел грязный красный флаг.
Из юрты выскочил пожилой казах,
На ходу надевающий халат и почему-то сжимающий
Какой-то лист бумаги.
«Батюшки, а скотины-то сколько!»
Услышал Исраэль за спиной тихий возглас красноармейца Вяткина.
«Заткнись, дурила, прервал его Митрофанов.
Воны ж скотоводы, у них окромя скотины боле ничого нэма».
Красноармейцы по знаку Заболоцкого
Чётко и деловито рассредоточились по долинке,
Оцепив забурливший аул.
«Ба-а-а! Саламатсызба , Сарыбай-мырза!»
Полуиздевательским тоном крикнул старику Зиновьев.
«Арон, какой я тебе мырза ?» —
Неожиданно почти без акцента по-русски ответил старик.
Утреннее солнце выглянуло из-за холма
И стало немного припекать.
«А как тебя называть? Товарищем?» —
Довольно хохотнул комиссар.
«Все Даулембаю служишь, аксакал?»
«С чего ты взял?»
«А кто ему третьего дня два ковра подарил, а?»
«Так это же той у него был. Свадьба дочери.
А если ты это коврами считаешь,
(старик кивнул на грубые кошмы,
Украшенные крупным аляповым орнаментом)
Снимай, забирай любой».
Зиновьев залез в планшет и достал какую-то бумагу.
«Ты в городе был, этот приказ читал?»
«Товарищ Зиновьев, наш аул по продразверстке
Уже три раза скот сдавал, и коней отдавали.
Ты оглядись, посмотри, что осталось –
Тебе детей голодных не жалко?»
«А ты меня на жалость не бери, кулак!»
Обернулся к красноармейцам:
«Ну-ка, вы трое, как вас там? Верстюк!
Сгоняйте-ка вон за тот холмик, да и пригоните сюда,
Всё, что увидите. Мигом!»
Казачки гикнули и помчались за холм.
«Это я-то кулак? — начал сердиться казах.
Арон, не забывай, у меня два сына в Красной кавалерии служат».
«Да. Служат. Двое. А третий где?!» — заорал Зиновьев.
«Где Казангазий?! Молчишь, сука!?»
Он сунул маузер под нос старику.
«Молчишь, потому что знаешь, подлец!
Он у тебя в Хиву подался, к Джунаид-хану!
Он, предатель, комиссара в Перовске ранил
И дезертировал! С оружием!»
«Арон, это неправда, ты знаешь, никто не видел…»
В этот момент из-за холма показались казаки,
Которые гнали перед собой небольшой гурт овец
Несколько тощих коней и двух коров.
«А вот и мы!» – обрадовался Зиновьев.
«Тю! А тощие-то!» – присвистнул кто-то из казаков.
Заболоцкий зыркнул на него, и тот замолчал.
«Ну что скажешь, Сарыбай, откуда у тебя это?
В нашем списке такого не значится.
Арон для выразительности шлепнул маузером по бумаге.
«Это Даулембая скот, Арон,–
Словно загнанный в угол, проговорил хмуро старик.
Я к нему на той с просьбой ездил.
Дети пухнут от голода.
На черта ему мои кошмы? Это из вежливости…
Он не отказал. Ты знаешь, сколько у меня душ.
А что – это? Если засуха не кончится, подохнут и они.
Это ведь на весь аул, прокормиться лето.
А там не знаю, дальше как…»
«Что ты там лепечешь, Сарыбай?
Советская власть тебе свободу дала,
А ты скотину Даулембая пасешь, как батрак.
Значится так. Раз это не твое, а байское,
То подлежит конфискации,
Как предмет эксплуатации трудового народа».
Зиновьев махнул красноармейцам в сторону скота.
«Забирайте!» «Постой, Арон! —
Старик захрипел и схватился за повод комиссарского коня.
Казаки не сдвинулись с места.
Хочешь, меня забери, делай, со мной что хочешь,
Но скот не отбирай… Я его только вчера пригнал.
Они больше на смерть похожи.
Дети только раз молока попили и то…
Что с тощей скотины надоить можно?
Арон, что я Даулембаю скажу?»
«Вот! Твой Даулембай специально скотину распихал
По родственничкам, типа тебя, Арон опять ткнул маузером.
И прикидывается пред вами добреньким,
А перед нами — преданным Советской власти.
Знаем мы таких, перекрашенных!
Забирай, ребята, по описи!»
Казах в отчаянии что-то умоляюще залепетал по-казахски,
Обращаясь к красноармейцу Бадмаеву.
«Я не казах, ата, я калмык», угрюмо ответил Бадмаев,
Опустил глаза и отъехал в сторону.
Старик обмяк и бессильно опустился на землю.
Заболоцкий кивнул Исраэлю, чтобы считал и записывал.
Вдруг завыли, заверещали бабы.
Страшно было на них смотреть.
Не на солдат они глядели, а выглядывали где-то в небе своего Бога.
Красноармейцы деловито подгоняли скот в Исраэлю.
Кто-то нашел тавро с номером полка
И стал разогревать его на ближайшем костре.
Исраэль слышал тихие переговоры солдат.
«Ты гля, да это ж навалом скотины,
Говорили ребята из российской глубинки,
Чего им, одну корову оставить, как у нас в деревне,
Да мерина вон того – выживут.
У нас-то и у кулаков столько нету».
«Да заткнитесь вы! – прикрикнул на них Верстюк.
Товарищ командир, тихо обратился он к Заболоцкому.
А ить верно, подохнут они, киргизы-то.
На станциях говорили, что они толпами мрут.
Они ж вроде наших калмыков –
Только скотиной и живут.
Нам ли, казакам, не знать?»
«А ну-ка тихо там!» — словно услышал Зиновьев разговор.
Заболоцкий махнул рукой и отвернулся в степь.
Зиновьев деловито спешился и, посвистывая, пошел по юртам,
Поднимая лениво их двери, сделанные из куска кошмы.
Вдруг кто-то крикнул: «Смотри, бежит, смотри!»
Из одной из юрт выскочил парень
И, вскочив на коня, ринулся в степь.
«Да это… это же дезертир Казангазий! – заорал Арон.
«Держи его! Чо смотрите!? Вперед, за ним!»
Три красноармейца кинулись вдогонку,
Казах бы ушел от них, но Бадмаев ловким броском
Заарканил парня и повалил на землю.
«Попался! – как мальчишка обрадовался Зиновьев,
А ну сюда его, гада».
И тут… тут раздался выстрел.
Все стали оглядываться и увидели –
На пороге юрты Сарыбая стояла старуха в высоком головном уборе.
Она, видимо, пальнула в воздух
И сейчас медленно приближалась к комиссару,
Что-то яростно крича по-казахски и угрожая ему ружьем.
Зиновьев поднял маузер.
«Оно не заряжено! Комиссар! Оно… там уже патронов нету!
Не стреляй!» — Крикнул Заболоцкий.
Но тут случилось непоправимое.
Старуха так яростно наседала на Зиновьева,
Что тот с испугу выстрелил ей прямо в грудь.
Она отлетела назад, как кукла, выронив ружье.
Непонятно, откуда взялась у старого Сарыбая прыть,
Но он вскочил, как резвый архар, и кинулся в юрту.
Через мгновение он уже выскочил обратно
С саблей в руках и, подбежав к Арону,
С размаху отрубил ему ухо.
Все ахнули от неожиданности, но события уже завертелись
Совсем по другому сценарию.
«Едить ёхомать, услышал я рядом Верстюка.
Теперь придется всех ло̀жить, как в Червоныцях».
Услышав название своего местечка, Исраэль вздрогнул.
В эту секунду еще один выстрел прогремел.
Пуля пролетела между ним и Верстюком.
Это стреляли из-за юрты напротив нас.
Опытный Верстюк быстро вскинул ружье и пальнул в ответ.
Там кто-то вскинул руки и упал.
Казак поскакал туда и, гибко извернувшись,
Поднял с земли чужое ружье.
«Отряд, к бою!» — прогремел бас Заболоцкого.
Зиновьев, выстрелив три раза в Сарыбая,
Завыл и упал набок.
Поднялся нехороший шум. Загремели выстрелы.
Из-за юрт стали выбегать мужчины,
В руках их были длинные палки наподобие булав.
Они с диким гиканьем бросались на красноармейцев.
Исраэль вскочил на коня и, оголив шашку,
Заметался между войлочных шатров,
Выглядывая вооруженных казахов, а, может, и убегая от них.
Какой-то долговязый выпрыгнул на него из-за частокола,
В руках его был кинжал,
Но увидев Исраэля, он в испуге швырнул нож наземь
И бросился наутек в степь.
Отец бросился за ним вдогонку.
Нагнав, поднял шашку, и… шлепнул ею парня по спине.
«Дорогу дай, почтальон хренов», — раздался сзади голос Верстюка.
Потянувшись, казак наотмашь с оттягом рубанул парня.
Раздался хруст и страшный предсмертный стон.
Казах рухнул наземь, как тряпичный мешок.
Верстюк озорно оглянулся и подмигнул Исраэлю,
Мол, видал, как надо?
Через минут двадцать сопротивление было подавлено.
Жители аула бросились в рассыпную в степь, холмы и тугаи.
Красноармейцы припустили за мужчинами, вылавливая их и рубя.
«Всё! Всё, стоять! – истерично заорал Зиновьев.
Уходим отсюда к чертям собачьим!»
Заболоцкий недоверчиво посмотрел на комиссара и,
Указывая шашкой в степь, спросил: «А они?
Ведь доложат, тогда трибунала не миновать!»
«Кому они доложат эти бараны? – зло зашипел Арон,
Вытаскивая кусок ткани и прижимая его к ране.
Попрячутся как сурки в норах, а дня через три сдохнут.
Забирайте все, что найдете!
Зерно, крупу – все, все забирайте и айда обратно!»
Действительно, жители аула бежали без оглядки,
Дети исчезали в каких-то норах, как степные зверьки.
Красноармейцы выпотрошили все юрты до одной,
Потом для острастки запалили пару-тройку,
А еще две повалили наземь с помощью арканов.
Исраэль смотрел на это все в состоянии ступора.
Он рассказывал мне потом свои ощущения и мысли:
«Я Исраэль бен Арье, еврей – сам стал погромщиком и убийцей!»
Как за мгновение поменялись красноармейцы,
Еще полчаса назад готовые не выполнить приказ,
Чтобы пощадить этих бедных киргизов!
Готовые оставить им их тощий скот, бросить вызов командиру,
Но не брать греха на душу за их смерть!
Но стоило прозвучать выстрелу и вот она – появилась линия,
За которой уже просто враг, и это уже просто война.
А на войне надо четко и профессионально
Подавить сопротивление и уничтожить противника.
Все моментально упростилось до простых формул,
Отодвинуло на второй план понятие «мирный житель».
Все стали участниками боя,
И это враг потерпел заслуженное поражение.
Исраэль не мог спокойно смотреть,
Как Митрофанов тянет за собой
Добытую белую козочку, приговаривая:
«А вот и молочко будет Соломончику!
То-то обрадуется казачок!»
Это о его сыне шла речь, о сыне Исраэля!
Но от понимания того, что сын будет пить молоко,
Отнятое у этих нищих и грязных туземцев,
У их черных от страха детей, замотанных в лохмотья,
Отцу делалось до тошноты страшно.
Да что там – не он один был темен, как туча.
Как бы ни зачерствело сердце солдата,
Уже много лет занимающегося
Только одним делом изо дня в день –
Убийством, войной,
Грабеж и насилие над мирными жителями,
Пусть даже являвшимися
Контрреволюционным очагом сопротивления Советской власти,
Все равно считалось делом низким.
И стоило бы держаться от этого подальше.
Из-за раны Зиновьева рапорта было не избежать.
Ординарцу Аревичу удалось его прочесть –
Продразверстка выполнена,
Контрреволюционный вооруженный элемент – басмачи –
Уничтожены, включая одного дезертира (это бабка-то басмачи!).
Мирное население не пострадало.
Обычный и четкий рапорт военного времени,
Без эмоций и деталей,
Говорящий о том, что, несмотря на трудности,
Красная Армия успешно выполняет свои боевые задачи.
А между тем полк моего отца продолжал свое передвижение на юг,
Подальше от железной дороги Оренбург-Ташкент,
Пересекая Голодную степь
(Так ее тогда все называли).
А местные проводники говорили, что она скоро закончится.
И с нею закончатся и ее ужасы.
Красноармейцу Аревичу еще не раз приходилось
Выезжать на продразверстку.
Как правило, сопротивления они не встречали.
Часто даже казахи сами пригоняли свой тощий скот,
Лишь бы не сталкиваться с такими «ангелами военного коммунизма»,
Каким был многоопытный Арон Зиновьев.
Лишь однажды красноармейцы Заболоцкого
Вступили в настоящую перестрелку
С «контрреволюционным элементом».
Это был такой же, как все, затерянный в рыжих холмах аул,
На подъезде к которому отряд военной продразверстки
Был встречен ружейным огнем
Из винтовок и допотопных кремниевых ружей
(Они у казахов назывались мултук).
Однако пальба была беспорядочной
И никто не пострадал.
Красные кавалеристы теперь стали опытнее
И не снимали пулемета с одной из тачанок.
Этим пулеметом и была подавлена стрельба из аула.
Когда бойцы зашли в аул,
Они увидели, что отстреливалась одна семья –
Дед, отец и три молодых пацана,
А в юртах… в юртах лежали одни мертвецы.
Женщины, дети, старухи – все умерли от голода.
Поэтому так бестолково стреляли «басмачи»,
Что были истощены голодом.
Они, получается, просто защищали могилу своей familia.
И всё.
Ни хлеба, ни скота, только кости обглоданной собаки в костре…
Впереди у полка была цветущая Ферганская долина.
Там жили земледельцы, которые более успешно
Справлялись с засухой и джутом.
Но прежде чем попасть в этот азиатский рай
Красноармейцы пережили еще одну ночь ужаса Голодной степи.
Однажды во время ночного бивуака
Бадмаев, будучи в карауле,
Услышал крики, раздающиеся во тьме безлунной ночи.
Он просигналил тревогу, и солдаты, схватив факела и оружие,
Устремились в ночь.
Исраэль оказался впереди
И когда он достиг места происшествия,
Его взору предстала страшная картина.
Посреди степи стояли, прижавшись друг к другу,
Две дюжины казахских женщин и детей,
Похожих больше на иссохшие мумии,
Нежели на человеческие существа.
Они стояли пирамидой, плотно друг к другу и,
Спрятав в середину детей,
Отбивались от стаи волков,
Среди которых еще было два одичавших
Громадных волкодава.
Звери выли и рычали, хватали женщин за руки и ноги,
Стремясь вытащить кого-нибудь из плотного строя
И сожрать.
Женщины молча и бессильно отбивались, и когда солдаты
Отогнали выстрелами волков, простерли к ним руки,
Хрипя и бормоча слова благодарности,
И упали замертво наземь.
Красноармейцы вытащили из этой пирамиды живьем
Только двоих подростков и троих малышей.
Дети были покрыты коростой и вшами.
Красноармейцы их подняли на руки
И понесли к бабам в медсанчасть.
А Исраэль услышал какой-то шум метрах в пяти от этого места.
Он и Бадмаев медленно пошли туда и увидели:
На земле лежал иссохший мужчина,
Намертво схвативший бездыханного волка.
Он разгрыз ему горло и последними усилиями пил хлеставшую кровь.
Увидев красноармейцев, он устремил безумный взор на моего отца
И прохрипел, простерев к нему окровавленный палец: «Азраил! Азраил!»,
И еще несколько слов по-казахски, а потом испустил дух.
Отец в ужасе спросил Бадмаева,
Что он сказал? Что он сказал?! Откуда он знает мое имя?!
Бадмаев ответил, что это не Израил, а Азраил –
Это мусульманский ангел смерти.
А сказал он примерно так:
«Азраил! Ангел смерти! Когда увидишь Аллаха,
Возле которого будут стоять мои предки,
Не говори ему, что видел, как я умирал».
Дед Соломон замолчал и остановился,
Ковыряя прутиком прибрежный песок Кинерефа.
«Знаешь, Коппель, все ведь не просто так, да?
Исраэль не был экзальтированной городской девицей.
Наоборот, комиссары-евреи с самого начала гражданской
Звали его в Красную Армию, потому что
Он был ловок, молод, силен и все в нем выдавало
Воина с древним генетическим наследием,
Несмотря на то, что немного евреев в царской России
Могли получить военную карьеру.
Но он всегда сам избегал военной карьеры,
Поскольку от своего отца знал,
Что ни к чему хорошему это не приведет.
Знал о родовом проклятии.
Я не буду, Коппель отвлекаться от повествования,
Но хочу, чтобы ты знал – наш род проклят.
Нам суждено из эпохи в эпоху повторять один и тот же сюжет…
Но погоди, вначале, все же, выслушай всю историю…
Нет, все истории до конца, чтобы понять,
Почему я не хочу, чтобы ты избрал путь военного.
Солнце клонится к закату, внук, поэтому я не буду
Подробно рассказывать, как полк отца воевал в Туркестане.
Об этом ты сам прочтешь в дневниках твоего прадеда.
Да-да, вот тот самый блокнот, который исписан
Арабскими письменами.
Ты ведь выучишь арабский, Иаков?
Обязательно выучи. Но письмена эти не совсем арабские.
Это «тотенше» — тюркский, написанный арабскими буквами.
Исраэль изучал туркестанские наречия
И в этом ему помогали наши семейные способности к языкам —
Этот воистину, дар или проклятие Вавилонской башни.
Накануне решающего сражения с силами Энвер-паши
Состоялся бой, который имел особое значение.
Я говорю, Коппель, о значении для моего отца,
Для нашей familia, а не для историков.
В сущности, даже не бой, а одно незначительное военное событие.
Когда Красная Армия заняла Душанбе,
Войска Энвера-паши отступали в большинстве своем
В страшном беспорядке.
Красные их преследовали лишь эпизодически,
Но во время одного из таких преследований
Эскадрон Заболоцкого попал в засаду,
Устроенную организованно отступающими
Войсками Давлатманд-бия, одного из предводителей басмачей.
Дюжина казаков отбивалась до последнего,
Погибли комэска, Верстюк и Бадмаев.
Пали Вяткин и Митрофанов,
Но отцу и троим красноармейцам удалось бежать,
При этом они потеряли коней и обмундирование,
Потому что пришлось переправляться через бурную горную реку.
Эта деталь важна, потому что потом они попали в распоряжение
16-го полка 8-й Башкирской кавалерийской бригады.
Башкиры отбили красноармейцев у басмачей Давлатманд-бия.
Отец и его однополчане были включены в состав 3-го эскадрона этой бригады.
Так вот важная деталь – это то, что отца переодели
В обмундирование полка – черкеску с газырями, папаху и башлык.
Поэтому во время решающего сражения
С силами Энвер-паши у Балджувона, возле местечка Чаган,
Исраэль выглядел так же, как и башкирские кавалеристы.
Судьба битвы была уже решена.
Красной Армии удалось отрезать штаб Энвер-паши
От основных сил, которые задержались
В виду празднования священного у мусульман праздника –
Ид-е Курбан . Штаб генерала поспешно отступал,
И башкирский эскадрон бросился
Преследовать басмачей.
Как я говорил, Исраэль был отличным наездником,
Поэтому в какой-то момент оказалось,
Что лишь два всадника мчались по желтым таджикским горам.
Вот отец догоняет предводителя мусульман,
И тот, увидев, что красноармеец оторвался от своих,
Смело разворачивает своего вороного коня
И поднимает шашку, готовый к бою.
Башкирские красноармейцы остались
Далеко позади, а впереди уже маячили
Всадники Давлатманд-бия.
Как вихрь налетел отец на легендарного генерала,
Тот отбил его первый удар и усмехнулся,
Развернувшись, сам пошел в атаку,
Но… подняв шашку замер.
В этот момент и Исраэль разглядел врага.
Они… они были как две капли воды похожи,
Словно близнецы, словно дети одной матери!
Разве что осанка Энвер-паши была чуть благородней и горделивей,
А в остальном — нос, усы, брови и орлиный взгляд –
Как капли одной утренней кулябской росы.
Черкеска и папаха только усиливали впечатление сходства.
«Кто ты?!» – удивленно воскликнул генерал.
Исраэль тоже опешил.
Их кони хрипели и вертелись в бешеной злобе,
Словно они, а не люди бились в смертельной схватке.
Пули засвистели над головами воинов,
Как со стороны басмачей, так и красноармейцев.
В это мгновение отец вспомнил, зачем он брошен судьбою сюда,
В этот чуждый Туркестанский край.
Из-за сына, которого он должен найти. Найти и воспитать.
Сколько между ним и сыном будет еще стоять
Убийств, горя, войны и голода?
«Я Азраил!» – мрачно воскликнул отец и ударил шашкой наотмашь.
Он отрубил паше голову и часть плеча.
И легендарный герой сказаний, восхищений и сожалений
Рухнул на древнюю таджикскую землю,
Как Сухраб, поверженный Рустамом,
Как Шинген Такеда, проигравший свою главную битву.
В этот момент две пули, прилетевшие с разных сторон,
Вышибли и Исраэля из седла.
Он не потерял сознания, и упав наземь,
Очутился лицом к лицу
С головой Энвер-паши,
Чей взгляд застыл в вечном изумлении,
Словно давая ему возможность
Еще раз хорошенько разглядеть и запомнить,
Кого он только что убил.
Убил, лишь на секунду заколебавшись,
Но, так и не засомневавшись,
Будучи убежденным в своей правоте.
Откуда-то сбоку вынырнул всадник
И покричав имя генерала, спешился.
Секунду он разглядывал поле единоборства,
А потом решительно схватил Исраэля за пояс,
Забросил его поперек седла своего коня
И рванул в сторону своих…
Это сам Давлатманд-бий бросился спасать
Своего боевого друга и перепутал его с отцом.
Во время этой бешеной скачки
Исраэль лишь один раз на мгновение пришел в себя
И попытался дотянуться до маузера басмача,
Но в это мгновение в спину Давлетманд-бия
Ударил выстрел и Исраэль снова потерял сознание.
Он очнулся несколько дней спустя
В каком-то доме, оборудованном под госпиталь.
Когда он пришел в себя, его обуял ужас.
Вокруг ходили незнакомые люди,
Говорившие что-то на непонятных наречиях
И принимавшие его, судя по всему,
За убитого им же Энвер-пашу.
«Это конец, подумал Исраэль.
Как только выяснится, что я не он.
Сразу станет понятно, что я – его убийца».
То, что это быстро выяснится, отец не сомневался.
Он не владел их наречием,
А то, что он приходит в себя, обнаружится очень быстро.
Исраэль начал прощаться со мной.
А с кем еще? Все остальные погибли.
А меня ожидала судьба сироты,
Потерявшегося в пучине Гражданской войны,
Оказавшегося за тысячи километров от дома своей familia.
Но судьба берегла этого еврея, Исраэля бен Арье.
Наутро возле его постели появился человек,
Одетый в светский костюм и с феской на голове.
Он, почему-то обращался к отцу по-французски и по-немецки,
Словно так было им привычнее общаться.
Отец что-то невнятно бормотал в ответ,
И к вящей радости басмачей, вступил в связь с миром.
Человек в феске теперь не отходил от него.
То, что Исраэль не реагировал на большинство тюркских
И таджикских фраз, списывали на последствия тяжелых ранений.
Два дня спустя, человек в феске
Обратился к нему с волнительной и горячей речью.
«Энвер, сказал он, я понимаю, что ты очень слаб,
Но войска деморализованы.
У меня к тебе просьба, я прошу лишь несколько минут.
Мы оденем тебя в военный мундир.
Постой несколько мгновений на пороге дома.
Пусть моджахеды увидят, что ты жив,
Пусть получат вдохновение,
А то, знаешь, Энвер, ходят разные слухи….
Я прошу – только несколько минут!»
Что оставалось Исраэлю? Только кивнуть
И обдумывать план своего спасения.
На следующее утро принесли парадный мундир
Энвера-паши, украшенный орденами и регалиями.
Несколько мужчин одели отца и подвели к зеркалу.
Кого он там увидел? Пленённого, запутавшегося красноармейца?
Нет. Он увидел незнакомого человека,
Изможденного войной, но пылающего внутренним огнем
Стремления бороться за что-то очень важное в его жизни.
А еще Энвер-паша смотрел на него с того света
И словно усмехался и говорил, ну что, Азраил?
Кто кого победил в том бою?
Отца вывели под руки под навес перед домом.
То, что он увидел, стало для него полной неожиданностью.
Это была не просто толпа бандитов —
Перед домом стройным маршем,
Под звуки барабанов и карнаев
Проходили войска туркестанского воинства,
Отдавая ему, самозванцу, воинский салют.
Это был триумф войны,
Триумф красоты обреченности,
Потому что ординарец Аревич
Точно знал, что эти блистательные полки
Завтра будут разгромлены частями РККА,
Уже давно захлопнувшими свою ловушку.
Он видел эти юные и пожилые улыбающиеся лица
Узбеков, таджиков, киргизов, казахов
И прочих племен Туркестана,
Обреченных на смерть,
Но воодушевляемых сегодня
Поддельным образом легендарного генерала.
Адонаи, а что еще надо, чтобы воину достойно погибнуть!?
И предстать перед Аллахом или Христом,
С зеленым полумесяцем или двуглавым орлом на околыше папахи
Или пусть даже с красной звездой на обшлаге рукава?
Ничего. Только безбрежное осознание своей правоты.
Справедливости войны, ее освещенности высшей идеей.
Понимание того, что «наши» — это наши,
А «они» — это они, и их надо просто убить.
Или самому умереть и узреть с чистым сердцем Господа,
Говоря ему – вот я. Воин. Вот моя простая правда.
В ночь после парада, отец, превозмогая боль,
Влез на привязанного возле дома карабаира
И ускакал во мрак, в сторону Красного Туркестана,
Стоящего на пороге создания нового мира.
Говорят это исчезновение лже-Энвера
Породило массу легенд.
Будто бы великий турецкий генерал так и не умер и до сих пор
Скачет где-то верхом на вороном карабаире
И зовет тюрков и сартов на священную войну…
Однако отцу тогда было не до легенд.
Он прорвался к красным частям,
Командование которых поспешило
Объявить его героем,
Чтобы он стал живым доказательством
Смерти басмаческого генерала.
Так Исраэль по иронии судьбы
Оказался и вдохновителем легенды
И ее уничтожителем.
Не это ли, Коппель, говорит о ничтожности,
Глупости и абсурдности войны?
Конечно, тогда красноармейцы и мусульмане
Сражались за свои идеалы –
И у каждого горел огонь справедливой битвы в глазах, но…
Но, полноте, мы сегодня говорим не о них,
А о своей семье и ее судьбе.
Отец нашел меня в Ташкенте,
Год спустя, потому что должен был продолжать
Отдавать свой долг войне.
Я же тихо рос в это время
В семье русского комиссара,
Который знал, что я своего рода талисман
Эскадрона, погибшего в Кулябе.
Отец как-то смог убедить власти,
Что я его сын, и забрал меня.
Моя новая familia со слезами расставалась со мной,
И почему-то было ясно, что русская страница нашей семьи
На этом не закончится.
Мы вернулись на Украину, в Житомир,
И на этом, Коппель, я закончу историю о моем отце
Исраэле бен Арье.
Видишь, уже ночь, но завтра
Мы снова выйдем на берег Кинерефа,
Чтобы ты услышал повесть уже о моей судьбе.
Ты узнаёшь, внук, некоторые вещи,
Которые приходили к тебе во сне?
Теперь ты понимаешь, почему я снисходительно
Относился к тому, что говорят психоаналитики.
Кроме психики физиологической, эмпирической или генной
Есть, видимо нечто, что приходит к нам
Из миров иных, оберегающих память прошлого
Не меньше, чем гены или страницы книг.
Скажу тебе еще кое-что сегодня –
Я тоже видел такие же сны.
Я видел не только Туркестан и Житомир,
Но и истории других племен и их героев войны…
Смотри, Коппель, вон восходит первая звезда!
Война, мир и Любовь Соломона бен Исраэля.
На следующий день мы с дедом пошли не на берег,
А в сторону развалин древнего Капернаума.
Нет, не было определенной цели,
Просто захотелось именно там
Поговорить об истории нашей familia.
«Коппель, ты теперь знаешь историю похода нашей семьи
На Восток. Теперь же послушай ее западный этап.
Он связан со мной, уже с твоим дедом.
Прибыв в Житомир, Исраэль не стал оставаться в Советской России.
То ли оттого, что на Украине назревал новый
Ужасающий голод.
То ли оттого, что, увидев вавилонский котел Туркестана,
Не поверил в новый советский народ.
То ли это просто еврейская хватка
Заставила его бежать вначале в Бессарабию к дальним родичам,
Оттуда, через Румынию и Польшу
В благополучную Чехословакию.
Он не подозревал тогда, что навстречу ему
Движется другая стальная идеология,
С которой придется столкнуться его сыну.
Надо сказать в защиту Исраэля-солдата,
Что он лишь пытался пристроить меня,
А сам, все же, передумал и решил вернуться в Россию.
Но политическая ситуация
Тогда стремительно менялась,
Границы захлопнулись намертво, и Исраэль бен Арье
Погиб где-то на своем обратном пути
В Красное Царствие пролетарского интернационализма.
Неизвестно погиб он как еврей, дезертир, солдат
Или просто как нарушитель границы,
Но с тех пор, никаких известий о нем я не слыхал.
Я же благополучно рос у своих родичей,
Пока уже моя судьба не заставила меня встретиться
С войной и тем изощренным коварством,
С каким она кроит человеческие судьбы.
Как еврей, Коппель, услышав историю моего детства,
Ты должен был понять, что я в своей жизни
Оказался лишен одного из главных наших обрядов –
Я не был обрезан.
Я часто думаю, что может из-за этого
На меня не снизошла наша «еврейская сущность»
И не уберегла меня от дальнейшего?
Но в Чехословакии это оказалось моим залогом выживаемости.
Ты видишь, Коппель, по моей внешности
Трудно определить, кто я.
Это Исраэль был черноволосым, с темными горячими глазами,
Сделавшими его похожим как две капли воды на Энвер-пашу.
Я же, видимо, пошел в мамин род.
Волосы моими были рыжими, сам я был сероглазым,
Но тогда еще не высоким – сказывалось детство в голодном Туркестане.
Все это позволило моей судьбе разыграть свой водоворот,
Понесший меня на своих волнах навстречу неизвестному.
Мне уже исполнилось шестнадцать,
Но я был тщедушным и маленьким, поэтому
Не выглядел на свой возраст.
Как ты знаешь из истории, в 1939 году
Чехословакия была оккупирована фашистской Германией
И превратилась в протектораты Богемия и Моравия.
А в сентябре этого же года в мир пришла
Вторая мировая война.
В октябре 1939-го мы с друзьями присоединились
К многочисленной демонстрации чешских студентов.
Помню это воодушевление, помню то, как оно захватывало и нас,
Школьников, приставшим к шествию, еще не совсем понимающих,
Что нас ждет вот за тем поворотом,
Поворотом улицы или судьбы.
Я помню, как мы шли, а на нас из-под стальных шлемов
Злобно глядели новые хозяева мира –
Солдаты Великого и Непобедимого Рейха.
Помню, как раздались выстрелы
И рядом упал этот парень, которого звали Ян .
Он шел совсем рядом и, повернувшись ко мне, улыбнулся,
Когда пуля прошила насквозь его горло,
А потом другая ударила в грудь,
Прямо на моих глазах.
Ноябрьские дни этого года переросли в страшные гонения
На студентов, да и вообще на всех,
Кто выступал против фашистской оккупации.
Что предприняли мы, подростки тогда?
То, что делают обычно парни моего возраста –
Объединяются в мальчишеские отряды мести
И, применяя все методы дворовых хулиганов,
Стремятся нанести максимальный ущерб врагам.
Конечно, этот ущерб был скорее смешон,
Нежели вносил какой-то вклад в борьбу с коричневой чумой.
То мы изобьем отставшего от колонны ефрейтора,
То спустим шины зазевавшимся мотоциклистам.
Однажды даже бросили гранату в телегу обоза,
В которой спал толстый фельдфебель.
Однажды украли два автомата и передали студентам.
Но в один день состоялось действительно
Настоящее побоище.
Оно произошло, потому что мы встретили своих сверстников –
Молодчиков из «Гитлерюгенда»,
Состоявших на побегушках при одном из немецких штабов.
Эту юную нацистскую поросль выследили на улицах
Йожек и Влади, когда те как-то выпали из-под присмотра
Старших камрадов-партайгеноссе.
Им было лет по 13-14, но вели они себя цинично и не в меру смело,
Как и положено юным фашистским львятам.
Но львята должны узнать, сколь они уязвимы,
Когда лев уходит в свой территориальный патруль,
А хозяевами ночи становятся красные псы саванны.
Их было человек пятнадцать.
Вначале мы выманили их на пустырь,
Забросав камнями и раздразнив так,
Как это изощренно умеет делать уличная шпана.
Тут пригодилось мое знание немецкого и идиша.
Когда мы оказались на пустыре,
Югенды увидели, что нас немногим больше – около двадцати.
Они дисциплинированно остановились и,
Нагло улыбаясь и демонстрируя всяческое презрение
К нам – «славянским мордам»,
Сняли свои коричневые мундирчики и пилотки.
(О, арийская надменность!), тщательно сложили их
И, оставшись в одних майках, приняли стойки для кулачного боя.
Многие из наших ребят тоже имели подготовку
Физкультурно-патриотического общества «Сокол».
Поэтому мы, ничуть не смутившись, разделись по пояс тоже,
И пыша друг на друга горячим паром,
Ринулись в бой.
Брызнула первая кровь. Кто-то упал в холодную осеннюю грязь.
Драка постепенно стала терять свои дворовые
Мальчишеские правила.
Вот несколько югендов добивают нашего брата на земле.
Вот наши бьют ногами по стриженой голове кого-то из фрицев.
Несмотря на отличную физическую подготовку юных наци,
Мы постепенно начали одерживать верх.
Однако мы не учли одного –
У двух главарей гитлерюгенда были пистолеты.
Наверняка это не было табельным оружием,
Но в небе войны всегда летают валькирии
И раздают оружие всем, кому они пожелают,
Отнюдь не руководствуясь ни штатным расписанием или воинским званием,
Ни логикой или здравым смыслом.
Когда раздался первый выстрел,
Йожек охнул и повалился набок,
Зачем-то настойчиво засовывая руку за пазуху.
Когда он вынул руку, мы поняли зачем.
Мы увидели кровь.
Пацаны завыли, как настоящие псы саванны,
Два других выстрела потеряли смысл и ушли невесть куда
Из-за нашего лавового наскока на юных наци.
Влади отобрал один из пистолетов и, не задумываясь,
Открыл огонь по врагам.
Тот из главарей гитлерюгенда, у которого оставался
Второй пистолет.
Не потерял хладнокровия от нашего массированного нападения
И утери одного из пистолетов.
Он ловко избегал единоборств и передвигясь по полю битвы,
Расчетливо вычислял лидеров и стрелял в них
Практически в упор.
Смерть не испугала нас. Она просто свела нас с ума.
Отчаянно завопив, кто-то бросился югенду в ноги и опрокинул его.
Я же налетел на него сверху, и мы покатились куда-то вниз.
Там был какой-то темный ручей,
В грязи которого мы вывалялись с ног до головы.
Битва осталась полыхать где-то наверху.
До нас смутно долетали крики мальчишек,
Прогремело ещё два выстрела.
Мы же с главарем юных наци
Намертво вцепились друг в друга,
Пытаясь то ли задушить противника,
То ли разорвать ему горло,
То ли потопить в жидкой грязи.
Я был постарше этого «завоевателя мира»
И, видимо, был более искушен в драках.
Поэтому я никак не давал ему воспользоваться пистолетом,
Который, к моему удивлению, он так и не выпустил из рук.
Хотя сработал бы пистолет после такого купания в грязи?
Мне некогда было раздумывать.
Это уже была не драка, а борьба не на жизнь, а на смерть.
В какой-то момент я пропустил страшный удар по голове рукоятью пистолета.
Я начал терять сознание, когда вдруг почувствовал,
Как ослабевает и мой противник.
Со всей силы я вжал его всем телом в густую жижу грязи и крови.
В конце концов, на поверхности этого ужасного месива
Осталась только рука, сжимающая «Вальтер».
После нескольких судорожных движений пацан затих,
А я вдруг осознал, что убил человека…
Мальчишку…
Меня вырвало в эту грязную смесь,
В глубине которой остывало человеческое тело,
И я на мгновение потерял сознание.
Я не знаю, что привело меня в чувство –
То ли ночной холод, то ли звук резких автоматных очередей.
Но было ясно, что не очнись я вовремя,
Затянуло бы меня это болотце вместе с моей жертвой
Навсегда-навсегда-навсегда.
Чтобы вырваться из его мутных объятий,
Я сбросил тяжелые башмаки вместе со штанами
И, сжимая вражеский «Вальтер», пополз наверх.
Автоматные очереди, которые я слышал снизу,
Были выпущены немецкими солдатами,
Оказавшимися рядом с пустырем и
Пришедшими неожиданно на помощь гитлерюгендам.
Я не понимал того, что мне следовало скрыться в ложбине,
Пока не уйдут солдаты, поскольку мое сознание
Пребывало в полном тумане.
Выкарабкавшись наверх, я понял свою ошибку,
Увидев приближающиеся ко мне кованые сапоги немцев.
Но было поздно, и я снова впал в беспамятство.
Я думаю, Коппель, у тебя хватит фантазии понять,
Что произошло со мной дальше.
Да, действительно, со мной произошло то же самое,
Что и с отцом в Туркестане – меня приняли за другого,
За того, кого я убил своими руками,
И на кого я оказался похож как две капли воды.
Звали его Дитрих Ройтерманн.
Теперь точнее было бы говорить,
Что теперь так звали меня.
Я провалялся некоторое время в беспамятстве
И, о, чудо! как-то умудрился не выдать себя.
Не представляю, что было бы,
Если бы я хоть раз в горячечном бреду
Обругал бы медперсонал на идише.
Если бы на чешском – это было бы менее страшно.
Потому что рядовой Ройтерманн был судетским немцем.
Не выдала меня и та наша еврейская физиологическая особенность.
Ну, о которой я тебе говорил,
То есть та, которой у меня не было…
А попал я в Национально-политическую академию,
Сокращенно «НаПолА», в Плошковитце, в Судетах.
И теперь, я стал волею злых валькирий войны
Членом молодежной нацистской организации «Гитлерюгенд»,
С битвы, с которой начался мой боевой путь.
Рассказы Исраэля научили меня,
Что не надо впадать в панику.
Злая судьба, осуществляя парадоксальные перемещения человека
Из одной ценностной системы
В абсолютно противоположную,
Словно насмехаясь и развлекаясь,
Предоставит мне, обязательно, какой-нибудь дополнительный шанс
К выживанию.
Так и случилось. С немецким у меня проблем не было.
Легкий славянский акцент только подтверждал
Мое судетское происхождение.
Несмотря на то, что я был старше Дитриха Ройтерманна,
Я по-прежнему оставался щуплым и маленьким сыном
Туркестанского и украинского демонов голода.
Поэтому, когда я увидел свое новое удостоверение,
Утверждавшее, что я был рожден в 1926 году,
Я принял эту дату, как свой второй день рождения.
Про внешность я тебе уже говорил.
В палате, в медсанчасти НаПолА, где я лежал
Висел мой улыбающийся портрет в черной пилотке
С надписью –
«Наш однокашник – герой боев Великого Рейха в Богемии».
И, знаешь, Коппель? Я ведь был представлен к награде!
История о героической схватке ребят из Гитлерюгенда,
А в особенности о парне, который был ранен,
Но не утерял оружия,
Дошла до рейхспротектора Богемии и Моравии
Константина фон Нейрата,
И он ходатайствовал о присоединении меня к списку
Награжденных медалью 1 октября 1938 года!
Дескать, такое награждение поднимет дух
Не только солдат, но и новой поросли НСДАП!
По выздоровлении меня ждала
Бронзовая пластинка с изображением Пражского дворца
И бесконечное уважение офицеров и учащихся НаПолА.
Слышишь, Коппель? За убийство мной самого себя
И за покорение страны, ставшей колыбелью моей юности!
Оставалось одна главная проблема – память.
Память о прошлом, память о «друзьях-однокашниках»,
Знания, полученные в НаПолА –
То, чего у меня не было и не могло быть.
Но эта проблема разрешилась сама собой в госпитале.
Может быть я, будучи необрезанным (прости, Коппель)
И утерял часть еврейской сущности.
Но еврейской везучести, все же, не утерял.
Демонстрируя врачам свое полное беспамятство,
Я ожидал, когда судьба протянет мне свою соломинку.
Это было не так сложно,
Ведь медперсонал и не пытался меня уличить.
«Я» ведь был героем,
А поэтому найти объяснение тому, что я ничего и никого не помню,
Предстояло не мне, а медикам Третьего Рейха.
Странно, что подозрения о том, что не того нашли,
Так и не пришли никому в голову.
Тем не менее, врачебные консилиумы оставались в замешательстве.
Я уверен, что кое-кому из врачей
Приходило в голову более трезвое объяснение, но…
Знай, Коппель, когда становятся бессильными
Знания и убеждения
Выступают во всей красе заблуждения.
Так в моей судьбе появился профессор Штайнер,
Который занимался проблемами особенностей арийского мозга.
Он сказал своим коллегам,
Дескать, мы действительно имеем дело с одним из случаев
Казалось бы необратимой амнезии,
Но, если ему дадут возможность, он сумеет доказать,
Что выдающийся арийский мозг
Обладает столь значительными способностями к восстановлению памяти,
Что не только сумеет восстановить прошлое,
Но и продвинется вперед.
Дайте только время и возможности,
А также предоставьте ему этого героического пациента.
Врачи пожали плечами, а что они могли возразить?
И согласились.
Я быстро сообразил, как поддержать теорию доктора Штайнера.
Запасшись словарями и разговорниками из библиотеки,
Я быстро доказал ему (и его коллегам)
Выдающиеся возможности арийского мозга
К изучению русского, французского, английского языков.
И, к священному ужасу коллег доктора,
К тюркским и иранским языкам,
Которым, как ты догадываешься, Коппель,
Меня научили красноармеец Исраэль Аревич
И загадочный вавилонский код нашего рода.
То, что касается действующей памяти,
То с этим проблем не было –
Я быстро восстановил знакомство, а где и дружбу
С ребятами из НаПолА.
В сущности, ведь это были просто мальчишки.
Они, кричавшие радостно, «Тилль! Тилль!»,
Когда встречали меня в казарме как лучшего друга,
А не доктор Штайнер и не арийский мозг
«Восстановили» мою текущую память,
Память человеческих отношений.
Как я говорил тебе, Иаков, я тогда еще не был столь высоким.
А за два года в НаПолА я вымахал почти таким,
Какой я есть сейчас.
Тому заслуга – увлечение плаванием, волейболом и боксом.
А также, Коппель, питание. Хорошее питание,
Которого я не видел ни разу
С самого момента своего рождения.
Так что спустя несколько семестров обучения
Доктор Штайнер представлял коллегам истинное чудо
Арийского мозга – Дитриха Ройтерманна,
Урожденного Соломона бен Исраэля,
Владеющего несколькими языками,
Спортсмена, отличника учебы, эрудита, огромного верзилу, героя
И прекрасного друга для камрадов по Гитлерюгенд…
Вот тебе, Иаков, и истинная история моего «предательства».
Что ты скажешь на это, внук?
Конечно, это страшно для еврея – понимать, что твой предок
Не просто барахтался в водовороте войны,
Но и носил на своем мундире страшные знаки галута Эдома .
И я даже не пытаюсь оправдаться.
К чему лишние слова? Ты поймешь все сам.
Единственное, за что я благодарен Адонаи,
За то, что не участвовал в «практическом исполнении»
Шоа нашего народа.
Но… не знаю, насколько это прозвучит оправданием. Ведь я воевал.
Знаю только одно, что я должен просто рассказать тебе то,
Что, возможно, убережет тебя
От свирепых объятий валькирий,
Исступленно носящихся над полями сражений».
Дед замолчал, и, увидев перед собой
Древние развалины синагоги Капернаума,
Остановился. Ветер Кинерефа трепал его седые волосы.
Я не знаю, просил ли он прощения
Или молился, но мне показалось,
Что тишина израильского пейзажа, разлившаяся кругом,
Медленно-медленно стала признавать в нем сына…
Но может быть и нет, кто сможет в этом легко разобраться?
Дед обнял меня, и это объятие не встретило ожидаемой теплоты,
Хотя оно на нем и не настаивало.
Я не мог пока определиться,
Как относиться ко всему, что рассказывает дед.
Я не был готов.
Соломон знал это
И не торопил событий.
«Вот так, Коппель, продолжил он свой рассказ,
Настал 1943-й год.
Что он означал для меня?
Только то, что в этом году была сформирована
12-я танковая дивизия СС «Гитлерюгенд».
А это означало, Яша, что мне и моим сверстникам по 1926-му году
Предстояло из теории знаний о войне
Шагнуть в самую пучину войны как таковой.
Я не буду тебе рассказывать о том, как воевал за них.
Ты узнаешь из истории, что эта дивизия свирепыми вепрями
Громила и уничтожала врагов,
Находившихся по ту сторону
Самой простой линии ценностей – фронта.
Скажу только, что в 1944 году
Я бежал из Фалезского котла
К бельгийским партизанам.
Нет, Коппель, на этот раз не было чудесного превращения
За счет абсолютного внешнего сходства.
Просто я и трое «предателей» привели им и сдали
Нашего командующего, оберштурмбанфюрера Мейера.
Думаешь, за счет этого мы сразу получили безграничное доверие?
Как бы не так.
Нам и троим моим товарищам пришлось кровью доказывать,
Что нацистское прошлое было ошибкой судьбы.
Как это у нас получилось?
Знаешь, внук, обычно это не получается.
Мы можем прощать измены в любви, в политике,
Грехи чревоугодия, прелюбодеяния, тщеславия,
Ненависть к ближнему, даже прозелитизм.
Но одно простить труднее всего –
То, что ты когда-то был не нашим, по ту сторону фронта.
Тем не менее, я являюсь Офицером
Бельгийского Ордена Короны.
Вот так-то, внук…
Кстати в то время, в антисанитарных партизанских условиях
Я сам сделал себя полноценным евреем физиологически.
Ну, ты понимаешь… Прочитал кое-как молитву,
Которую придумал сам же и … р-раз!
Я хотел, чтобы, если вдруг опять попаду к врагам,
Судьба не играла со мной больше в игры превращений.
Чтобы уже не было обратного пути.
Я знал, что если смог избежать плена на этот раз,
То лучше уже мне туда никогда не попадать.
Скорее всего, у судьбы ящичек удачи тоже истощается,
Как и все в этом мире.
Поэтому я мои друзья-перебежчики сражались так,
Будто искали именно смерти.
Ведь что такое плен? Ты знаешь, внук —
Большинство участников этой большой мужской игры
Под названием «война»,
Оказавшихся не по ту сторону фронта, не на стороне победителей,
Создавало впоследствии новые армии –
В ГУЛАГ-ах, лагерях военнопленных.
На стройках Москвы, Киева, Алма-Аты
Или в американских лагерях POW — Prisoners Of War на Рейне.
Там погибло от болезней и истощения не меньше чем в боях.
Они умирали от голода и истощения точно так же,
Как умирали их враги, в их лагерях смерти.
Ты скажешь, что под разными идеологиями и по разным поводам?
Разными способами и по разным причинам?
Да, ты опять прав, мой юный Иаков бен Халфай.
Только расскажи об этом Азраилу,
Ангелу смерти, собирающему свой плодотворный урожай войны
И не спрашивающего, коммунист ты или наци,
И что убило тебя – газовая камера или лагерный тиф.
Я еврей, Коппель,
И у меня есть моя «еврейская сущность».
Я знаю цену слова «возмездие»,
Понимаю и то, когда оно бывает справедливым.
Я знаю, что Адонаи наказал наших врагов, но…
Но как сын военных поколений истории скажу тебе —
Горе побежденному!
На него падет всё, вся вина за безумие валькирий войны.
И он будет нести эту вину до тех пор,
Пока участь побежденного не изберет себе новую жертву.
Знаешь, внук, говорят, что когда на небесах
Была война между черными и белыми ангелами,
Они все думали, что воюют за Бога.
А Сатана не только сбил с пути половину из них,
Но и пожал себе много плодов победы,
Потому что принимал разные обличия,
В том числе и Господа Миров.
Говорят, даже Всевышний запутался где кто.
Голодный так Его запутал, что с тех пор
Во всех историях войн и их последствий
Победитель, упиваясь справедливой победой,
Начинает медленно приобретать себе те качества,
Которые он больше всего ненавидел в своих врагах.
И все это потому, что чистоту его оценок
Затмевают сладкие, а потом и трубные голоса прекрасных валькирий.
Поэтому, когда встретишь свирепых и целеустремленных,
Выносящих вердикты среди мирного времени,
Требующих отмщения за прошлые войны, знай –
Они зовут тебя туда, где скоро снова загорится
Линия простейшей истины — линия фронта.
А значит туда, где война.
Теперь ты спросишь, где я был после войны.
Это не менее длинная история.
Она далека от повествования «истории рода»,
Но если ты хочешь узнать об этом подробно,
То эту «историю возмездия» ты прочтешь в моих дневниках.
Там найдешь всё.
И то, как я переехал в США из Европы,
И то, как однажды пошел и открыл властям свое прошлое,
Как был судим и сидел в тюрьме.
Как думал, что просижу в ней до конца своей жизни,
Так и не посеяв семени своего рода.
Как пришли они, убедили меня,
Что я могу искупить свой грех по-иному.
Всё там, Коппель, в этих толстых блокнотах.
Оттуда ты узнаешь даже то, чего не знает и не узнает никто.
Но ты сможешь узнать, если будешь учить языки.
Иначе, как ты почтешь это все?
Нет, Иаков, тебе суждено продолжать традицию рода,
Так что…» Соломон присел на камни,
Словно был заново измотан своей жизнью.
«У меня не получалось так долго найти тебя,
Потому что не я мог въехать в Израиль.
Но не потому, что за мной бежало прошлое Второй мировой.
За то я искупил свою вину, а скорее меня из нее выкупили…
Нет, не за «Гитлерюгенд» я лишен был права въезда в страну.
Они сделали так, что тут особо никто и не знал про мое прошлое.
Въезд мне запретили по другой причине,
И это, дай Бог, история моей последней войны.
Их не интересовало мое искупление кровью,
Которое я и мои товарищи прошли в Европе.
Они знали, что мои еврейские муки совести не заглушит ни тюрьма,
Ни бельгийские награды, ни показания на судах однополчан-партизан,
В один голос утверждавших, что лишь чудо
Уберегло меня от гибели из-за того безрассудного героизма,
Что мы демонстрировали в боях с нацистами.
Им я нужен был в качестве управляемого инструмента.
Что ж, они получили его.
Осенью 1972-го года аналитики военной разведки США
Сделали вывод, что Моссад проводит беспрецедентную
Операцию по ликвидации активистов ООП ,
Виновных или причастных к кровавой бойне
На Мюнхенской олимпиаде.
Тогда мне предложили, в качестве искупления перед Родиной,
Участвовать в ней в качестве внедренного американского агента.
Думаешь, это для того, чтобы помочь Израилю?
Смешно даже такое предположить.
Это для контроля над ситуацией.
Американцы всегда хотят контролировать всё и вся.
Это верно. Ведь, как говорил китайский мудрец Сунь Цзы,
Один из лучших теоретиков войны:
Умный полководец вначале побеждает,
А лишь потом выходит на поле боя.
Глупый же – вначале выходит на поле боя,
А потом пытается победить.
А как ты сможешь побеждать заранее?
Только если обладаешь полным контролем над ситуацией,
Обладаешь истинным знанием того, что происходит.
Если говорить об организации группы ликвидаторов,
То Израиль продемонстрировал,
Что у него есть достаточно сил и политической воли.
Не всегда хватало только одного – информации.
Этим-то и воспользовались американские Сунь Цзы.
Так вот, осенью 1972 года я присоединился
К операции «Заам ha-эль» в качестве добытчика информации
И одного из разработчиков спецопераций.
Не буду рассказывать тебе всего, Коппель,
Только один эпизод.
После убийства Базиля аль-Кубайши в Париже,
Ребята вернулись, волоча одного из стрелков под руки.
Все были бледны, а сам этот стрелок (назовем его Авнер,
Как героя фильма «Мюнхен») вообще потерял всякое самообладание.
Никто долго не мог объяснить, что случилось.
Лишь несколько дней спустя я зашел в комнату к Авнеру.
Тот лежал, апатично уставившись в потолок.
«Знаешь, Шломо (ну, будто он называл меня моим именем),
Промолвил Авнер через несколько минут. —
Он, был как две капли воды похож на меня…»
Сердце мое забилось,
Я подумал, что он чувствует то же самое,
Что чувствовали я и Исраэль,
Будучи захваченными ангелами войны в свой безумный водоворот.
«Ты сожалеешь о чем то, Авнер?» — спросил я его.
«Что ты? Нет. Я израильтянин, еврей.
Более того, я оружие возмездия в руках моего народа –
В этом я нисколько не усомнюсь никогда.
Я и не думал считать, что я где-то убиваю себя или себе подобного.
Палестинцы враги. Хотя за окном парижская весна,
Я вижу, что по улицам этого города прошла красной полосой крови
Линия фронта между нами и ними».
«Но, Авнер, если ты убежден в своей правоте,
Что тогда повергло тебя в смятение?»
Тот промолчал, потом встал и налил себе виски.
«Знаешь, просто на мгновение…
Просто на одно мгновение мне показалось,
Что я сегодняшний
Убиваю себя завтрашнего
Навсегда-навсегда-навсегда».
Моссадовская группа работала крайне законспирировано.
Естественно, официально она не существовала в помине.
Поэтому тем, кто присоединился к группе в Европе,
На всякий случай был надолго закрыт въезд в Израиль,
Будто бы нет таких людей вообще.
Поэтому, внук, я так долго и не мог до тебя добраться,
А тем более получить документы на опекунство.
Но они помогли мне.
Сам бы я не справился, Коппель.
Но хорошо то, что хорошо кончается, правда?»
Соломон остановился и закрыл глаза.
«Саба, а кто моя бабушка? Ну, мамина мама?
Это тоже какая-то страшная история?»
«Не ерничай, Яша, улыбнулся Соломон.
Это как раз таки не страшная, а очень замечательная история.
Ты спрашивал, почему твой отец
Часто шутил над мамой, говоря о ее русском упрямстве?
Помнишь, как я тебе рассказывал,
Что на моей ташкентской семье
Не закончится русская страница истории нашей familia?
Так вот слушай.
В 1957-м году произошло замечательное событие.
Оно называлось «Московский всемирный фестиваль молодежи и студентов»,
И на этот форум я поехал делегатом
В составе молодежной группы из США.
Говорят, что на этот фестиваль
Съехалось около 30 тысяч зарубежных гостей
И 100 тысяч со всех концов СССР,
А встречать их на улицы советской столицы
Вышло два миллиона москвичей!
Я в последний раз столько людей одновременно
Видел на войне, но там текла кровь,
Рвались снаряды, двигались ужасные машины.
Тысячи солдат, объятые единым порывом безумия,
Отбирали жизнь, теряли жизнь или же часть ее.
А здесь…
Коппель, я увидел мiръ и Мир одновременно!
Это было какое-то феерическое торжество любви,
Дружбы, света и неистребимой веры людей в то,
Что войны, холодные и горячие – это просто пережиток прошлого,
Которому вот-вот суждено кануть в Лету
Навсегда-навсегда-навсегда.
Веры в то, что человек уже достиг того уровня развития
Нет, не общественных укладов,
А развития души, сердца, гуманизма
И еще тысячи прекрасных слов и понятий,
Чтобы больше не допустить взаимной ненависти и убийств.
Конечно же, я прибыл в Москву с их заданием.
Как нельзя кстати во мне совпали
Партизанское прошлое и знание русского языка.
Но это задание быстро улетучилось из моей головы,
Когда я ехал в открытой машине по Садовому кольцу и плакал
Слезами мальчишки, солдата, сироты, просто парня,
Которому слова «Миру мир!», «Дружба!» и «Нет войне!»
Попадали прямо в открытое сердце.
И плач мой был сильнее вдвойне,
Оттого, что я помнил, как был однажды врагом этого народа,
Но тогда мне впервые начало казаться,
Что я могу быть прощен по-настоящему.
Люди, видя планки европейских наград на моем пиджаке,
Обнимали меня и плакали.
Бывшие советские партизаны угощали меня папиросами,
Посвящали мне задушевные звуки гармони
И советских военных песен.
Девушки дарили мне цветы и яркие флажки.
Парни пожимали мне руки и крепили на моем лацкане
Значок-пятилистник фестиваля или красный флажок комсомола.
Так в гуляниях и общении прошло два дня,
Показавшиеся мне радужной и теплой вечностью.
Но тупая боль вдруг начала расти где-то внутри.
Все большим ожогом разгоралась на моей груди
Нацистская пражская медаль.
Черные руны СС душили мое горло,
Сомнения в возможности прощения
И невозможности искупления
Все больше и больше захватывали мой дух
И потрясали его.
Причинной тому были воспоминания ветеранов,
Которых среди участников фестиваля было множество,
Причем были они из разных стран.
Это неизбежно приводило к воспоминаниям тех дней,
Когда мы, Америка и СССР, были союзниками.
Тема боевого братства часто спасала от дискуссий и споров,
Которые часто вспыхивали, хотя и были доброжелательны.
Никто не хотел переходить какую-то невидимую грань.
Если спорщики приближались к ней, тогда, как правило, звучало:
«О чем спор, друзья, ведь мы же братья по оружию!»
И тогда начинались объятия, воспоминания,
Душевные застолья и посиделки
В тесных, но уютных квартирах москвичей,
В редких кафе, а часто просто
На скамейках парков и бульваров.
Однажды мы большой компанией гуляли на Ленинских горах
Возле главного здания Московского университета.
Мы стояли возле скамейки и, наверное, в сотый раз
Пели задушевную песню «Подмосковные вечера».
Я и сейчас ее помню наизусть, Коппель.
Не слышны в саду даже шорохи,
Все здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера».
Старый Соломон замолчал, и я не стал прерывать этого молчания.
Он был не здесь. Он был не сейчас.
«Как я тебе рассказывал,
Мы пели эту песню тогда не одну сотню раз,
А я всегда готов ее спеть и в тысячный.
В ту секунду, когда протяжная мелодия
Потянулась над склонами Ленинских гор,
Куда-то вверх, к огромной звезде
На шпиле МГУ,
Я получил страшный удар…
Нет, это не был удар кулака или молнии.
Это был удар моей внутренней боли.
Вокруг гуляло невообразимое количество молодых людей,
Парочек и компаний.
И из одной из них раздался крик по-немецки:
«Тилль! Тилль! Дитрих! Иди скорее сюда!»
Из компании вынырнул молодой человек,
Тянущий за собой в обнимку двух других парней.
«Дитрих, знаешь кто это?
Это парни, которые тогда нас освободили!»
Я побледнел, но через мгновение понял,
Что молодой немец обращался не ко мне,
А к парню, стоявшему рядом.
«Гляди, Тилль! А этот парень видать тоже ветеран. –
Сказал, улыбаясь, первый немец, кивая на меня и указывая на мои наградные колодки.
Идем, камрад, идем ка с нами!
У этих ребят припрятана бутылочка скотча!»
Я с трудом преодолел столбняк и, промычав что-то, согласился.
Мы сели вчетвером на скамейку и стали знакомиться.
Молодые немцы оказались антифашистами из Восточной Германии,
А те, кого они привели…
Ветеранами пехотного полка «Nova Scotia Highlanders»,
С которым судьба свела нас,
А я здесь говорю о дивизии СС «Гитлерюгенд»,
В Нижней Нормандии близ Эвреси.
Этот бой я запомнил не потому, что тогда
Страшным ударом СС-вских танкистов и гренадеров
Были практически уничтожены канадские подразделения
И «Новые Горцы».
А потому, что рассвирепев от открытия второго фронта
Наше командование выпустило приказ «пленных не брать».
И поэтому, после кровавого сражения,
Не успев даже смыть с лиц крови и копоти танкового дыма,
Озверевшие югенды расстреляли
Захваченных в плен шотландцев и канадцев.
Я не принимал участия в этом расстреле лично,
Но всегда считал, что кровь этого беспощадного убийства
На мне, на моих руках.
Глотнув пару раз обжигающий душу скотч,
Я тихонечко отошел. Мой уход остался незамеченным –
К шотландцам и немцам присоединилась группа
Русских и узбекских ветеранов войны.
Что творилось в моей душе, Коппель?
Тогда операция «Гнев Божий» еще не случилась,
И слова Авнера были не произнесены.
Но я понял в ту секунду, что произошло,
Когда я задушил этого мальчишку из югендов –
Я убил не только Соломона бен Исраэля,
Перевоплотившись в молодого нациста.
Я убил себя из этого прекрасного, мирного
И раскрашенного яркими цветами московского лета, будущего.
Медленно побрел я куда глаза глядят,
И вдруг увидел перед собой тусклый свет
Над дверью христианского православного храма.
Что-то всколыхнуло меня изнутри.
Я понял, что настало время поговорить с Богом.
Толкнув тяжелую дверь, я зашел внутрь.
Там, в отличие от того, что происходило на улице,
Царила почти абсолютная тишина.
Из темноты вынырнул улыбающийся священник
И жестами показал, как можно зажечь свечу и где ее поставить.
Я с благодарностью кивнул ему
И подошел к одной из икон.
Это оказалась икона Божьей Матери «Благодатное небо».
Я не помню, Иаков, что я говорил небесам,
Как просил принять мое покаяние.
Слова и образы путались у меня в голове,
А плечи сотрясались от рыданий.
Иногда, поднимая глаза, я замечал, что где-то позади
Замер тот священнослужитель, решив —
Меня не стоит ни беспокоить, ни успокаивать,
Потому что, видимо было заметно,
Что именно с Всевышним веду я свой непростой разговор.
Я не молил Бога – не смел.
Я не просил Его ни о чем – считал себя недостойным.
Я просил прощения и дара покаяния
У сонма образов, проносящихся передо мной.
Среди них был и Дитрих Ройтерманн и шотландские горцы,
Был тот русский лейтенант с зажигательной бутылкой в руках,
Которого переехал наш танк пополам,
Были дрожащие баварцы, которых я зарезал
Своим широким партизанским ножом,
Были черные глаза негра-снайпера из 1-й канадской армии,
Который несколько ночей терроризировал наши позиции,
За что его тело было изорвано в клочья
От выпущенного в него почти полного боезапаса наших автоматов.
Среди этих образов были обожженные лица парней,
Расползающихся подальше от горящего «Кенгуру»,
Которых мы забросали гранатами,
Удивленные лица молодчиков из Feldgendarmerie,
Увидевших меня на пороге своей казармы с гранатами в руках –
Последнее, что они увидели на своем жизненном пути.
Видел я маленького Мосю из юнгфолька,
Который по секрету говорил мне:
«Тилль, мне так нравится наша форма, но знаешь…
Я так не хочу на войну. Я мечтаю делать бочки,
Большущие бочки, как у меня на Родине».
А потом видел, как этот Мося, а точнее штурманн Моритц Бюттнер,
Удивленно смотрит на свои развороченные внутренности и говорит:
«Дитрих, а я теперь умру, да?»
Видел мальчишек и девчонок из Сопротивления, совсем юных,
Но за плечами которых уже была операция «Двадцатый конвой».
Я простоял в храме около часа.
Острая боль души постепенно сменилась тупой тоской.
Я боялся думать, что вот, Бог не ответил мне,
Что я не почувствовал Его ответа.
Молча кивнув священнику, я побрел на улицу.
И знаешь, Коппель, Бог все же дал мне шанс,
Потому что через несколько мгновений
На площадке обозрения Ленинских гор
Я повстречал свою Любушку,
Свою единственную Любовь в жизни.
Да, Иаков, советская студентка Любовь Воробьева –
Это и есть твоя русская бабушка,
Которой и твоя мама, и ты обязаны русскими кровями.
Я слышал, что Ленинским горам теперь вернули
Их старое название – Воробьевы.
Ты представляешь, сколько для меня в этом символизма?
Так что, когда будешь в России,
А тебе обязательно надо побывать там, внук,
Обязательно съезди на то место,
Где я встретил свою Любушку.
Некоторые умники впоследствии
Любили порассуждать о каких-то разнузданных нравах,
Которые де выплеснулись наружу у советских людей
Во время молодежного фестиваля.
Будто советских девушек охватило умопомрачение разврата.
Знаешь, Коппель, целомудреннее этих девчонок
Я больше никогда и нигде не встречал.
Если же говорить о любви, о настоящей любви!
То действительно, тогда весь воздух был пропитан ею.
Хотя… Хотя это, может быть, только мое впечатление?
Ведь все оставшиеся одиннадцать дней
Я видел перед собой только ее, мою прекраснейшую нимфу мира.
Мы гуляли по яркой дневной Москве.
Мы гуляли по загадочной ночной Москве.
Мы стояли на Манежной площади, держась за руки,
И пели: «Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем!»,
И. мне казалось, не было на всем земном шаре человека,
Который бы пел эти слова более искренне, чем я.
Я учил Любушку четко и правильно произносить скороговорку слов:
One, two, three o’clock, four o’clock, rock,
Five, six, seven o’clock, eight o’clock, rock,
Nine, ten, eleven o’clock, twelve o’clock, rock,
We’re gonna rock around the clock tonight.
И когда она ошибалась, мы задорно смеялись вместе!
И знаешь, Коппель, она стала тем алтарем,
Который принял мое покаяние.
Однажды, после какого-то шумного мероприятия,
Устроенного латиноамериканскими товарищами,
Мы возвращались пешком по одному из московских бульваров.
Тогда я рассказал ей все. Вернее почти все,
Опустив лишь страшные подробности
В описании кровавой бойни войны.
Рассказал ей про Гитлерюгенд, шотландцев и храм,
И даже про красноармейца Аревича,
Про то, что ее появление я воспринял как шанс, данный мне Богом,
Быть прощенным, ведь ничто, кроме любви,
Не обладает такой силой чистоты и возрождения.
Конечно же, Любушка была комсомолкой,
И, наверное, была воспитана в атеистическом духе.
Но она ни разу не подвергла сомнению или обсуждению
Мои обращения к Всевышнему.
Наверное, она почувствовала,
Что диалектическим материализмом будет трудно объяснить
Перипетии моей проклятой судьбы.
Она тихо спросила: «А ты… ты только в этом ключе
Видишь любовь, через призму своего прощения?»
«Нет, милая моя, горячо ответил я.
Просто я всегда говорил с Богом о боли,
Думая, что кроме нее ничего не бывает и не может быть в душе.
О любви же я говорить не умею.
Я не могу объяснить словами то могучее море чувств,
Которое окатывает мое сердце теплыми волнами.
Я никогда ничего подобного не испытывал,
Поэтому… поэтому я могу только показать!»
«Как!?» – настороженно спросила она.
Я оглянулся и увидел огромный плакат,
На котором была изображен Голубь Мира Пикассо.
«Могу… взлететь!»
Я вскочил и начал скакать и прыгать, как безумный,
Размахивая своими длинными руками.
«Погоди… погоди, сейчас я взлечу!!!» —
Орал я, а Люба звонко смеялась.
Шум разбудил спящего в ветвях дерева
Лохматого белого голубя, каких тысячи тогда летало над Москвой.
Он вначале ошалело перелетел с ветки на ветку,
А потом, понаблюдав за моими тщетными попытками
Освоить его родную стихию,
Деловито спланировал надо мной и Любой,
Стоящими рядом и глядящими друг другу в глаза.
Длинной и белой струей он испачкал меня
И Любушкино платье.
И мы восприняли это как знак небес.
Я мучительно считал оставшиеся до отъезда дни,
Словно предчувствовал долгое расставание.
Однажды вечером, Люба решительно взяла меня под руку
И мы, оторвавшись от шумной компании друзей,
Приехали в тот храм на Воробьевых горах.
Там тот же самый молодой священник
Тайно обвенчал нас, соединив наши души на небесах навеки.
Да, Коппель, я еврей, а она была комсомолкой,
Но другого Божьего дома мы просто не знали.
Да и священник, видевший меня раньше в ту ужасную ночь,
Не шибко соблюдал формальности обряда,
Сказав, что за все нарушения берет на себя ответственность перед Богом.
Только потом мы стали принадлежать друг другу…
Гм… Коппель, здесь я не буду тебя посвящать в подробности».
Соломон вздохнул полной грудью
И, улыбаясь чему-то, быстрее зашагал вперед.
Догоняя, я услышал его скрипучий бас:
Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
Трудно высказать и не высказать
Всё, что на сердце у меня.
А рассвет уже всё заметнее,
Так, пожалуйста, будь добра,
Не забудь и ты эти летние
Подмосковные вечера.
Немного погодя, Соломон продолжил свой рассказ:
«Расставаясь, мы давали друг другу клятвы,
Что расстаемся ненадолго,
Ведь мир теперь изменился и никогда не станет прежним.
Как мы жестоко ошибались!
Очень скоро «железная стена» снова выросла
Между нашими странами.
Мирные радуги снова сменились боевыми знаменами.
Я успел получить только несколько писем от Любушки,
Первое было полно слов любви и вечной верности.
Второе пришло ко мне много позднее и не по почте,
А разными немыслимыми путями.
Я понял оттуда –
Лишь одно мое письмо дошло до моей любимой.
Но главное известие, которое принесло второе письмо –
Это то, что у меня теперь есть дочь – Мария.
Да-да, Коппель, в 1958-м году родилась твоя мама.
Любе не простили ее «порочащих связей»,
О которых ее «друзья» подробно доложили в КГБ.
Она ничего и не отрицала.
Ее выгнали из комсомола и института,
А Маша родилась уже на целине, в Казахстане,
Куда Люба уехала не только от «друзей»,
Но и от строгих коммунистов-родителей.
Потом я узнал, что оттуда она перебралась в Ташкент,
Город, где я обрел своего отца и свою familia.
Мир, в сущности, мал, Коппель.
Когда я расскажу тебе о проклятии рода,
Ты поймешь это еще больше.
Как свирепый тигр я пытался разгрызть
Прутья стальных клеток,
Отделявших меня от любимой,
Но ничего не выходило.
Железный занавес стал новой линией фронта,
Разделившей мир на наших и не наших.
Тем не менее, я развил бурную деятельность,
Воспользовавшись тем, что США энергично боролись
За права советских «отказников»,
Я наладил контакты среди еврейской эмиграции,
Позволявшие мне получать весточки от Любы.
Я узнал, что она, так же как и я,
Так и не изменила нашей клятве,
Данной друг другу в Храме Троицы на Воробьевых горах.
В 1976-м году нам удалось обменяться письмами,
(Да какие там письма – маленькие записочки).
В своем письме Люба рассказала,
Что Маша поступила в московский вуз,
Но не смогла учиться по какой-то причине
И вернулась в Ташкент.
Мы договорились с Любой,
Что я приложу все усилия, чтобы вывезти их к себе.
Через год я узнал, что Маша опять вернулась в Москву
И выходит замуж. Жених ее еврей.
Люба заклинала меня, чтобы я сделал все для детей,
А лишь потом позаботился о ней самой.
Я начал активно заниматься тем,
Чтобы вывести Машу с мужем по линии «еврейской эмиграции».
Как ты догадываешься, Коппель,
Этот московский еврей и есть твой отец Алфей,
Который о «русском характере» знал далеко не понаслышке.
В конце 1978-го года мне, наконец, удалось
Вывезти твоих родителей из СССР.
Однако, несмотря на то, что они выехали по линии
Американского общества помощи эмигрантам,
В Вене Алфей принял решение ехать не в США, а в Израиль,
На историческую Родину,
Куда мне к тому времени дверь была закрыта.
Сами твои родители не особо стремились ко встрече со мной.
Позднее я узнал, что твой отец почему-то решил,
Что я нацистский преступник,
Скрывающийся от справедливого возмездия.
Поэтому информация обо мне была в твоем доме табу.
Мое активное содействие их выезду,
Естественно было неизвестно непосвященным.
Ну, а в 1979-м году на свет появился Натан.
А потом, спустя два года и ты…»
«А бабушка, саба? Ее ты видел потом?
Она сейчас жива?»
Соломон опустил глаза, нагнулся
И сорвал длинную травинку.
«Нет, Иаков, она умерла, – тяжело обронил он.
Она умерла, так и не дождавшись встречи со мной.
После ввода советских войск в Афганистан
Алия из Советского Союза сильно затруднилась,
Тем более Любовь Воробьева была русской.
Только с началом горбачевской перестройки в СССР
Ситуация изменилась коренным образом.
Но Люба не дождалась этого момента.
В 1986-м году моей любимой не стало.
Она стремительно угасла в Ташкенте от рака
Всего за три недели, после того, как узнала свой диагноз.
Спустя несколько месяцев я получил ее последнее письмо,
Где она была полна надежды увидеть меня.
Но какая-то грусть выдавала ее предчувствия.
Она отправила мне фотокарточки,
Которые теперь всегда ношу с собой, боясь с ними расстаться.
Смотри, Иаков, вот Люба в далеком 1957-м.
Рядом – я. Видишь, как ты похож на меня, хоть и Алфеев?
А это ее последнее фото.
Гляди, внук, как украсили годы ее прекрасное лицо.
Смотри, какая стать и гордость,
Которую ничто не смогло сломить, только злая болезнь.
Ну, эту линию фронта, эту войну
Еще долго человек не сможет преодолеть, победить.
А вот это, узнаешь? Твоя мама, когда была совсем маленькой».
«Саба, а почему родители не говорили со мной по-русски?»
«Не знаю, Коппель, я ведь со своей дочерью виделся лишь один раз,
Когда они ездили в Европу отдыхать.
Вы с Натаном были тогда совсем маленькими.
Я организовал встречу так, чтобы Алфей не знал.
А потом Маша практически не выезжала из Израиля.
Мне кажется, что, помимо того, что я был в их глазах «предателем»,
Она еще обвиняла меня
В несчастной судьбе матери,
Что, в общем-то, было недалеко от истины.
И потом, я же не знаю, как и что Люба рассказала ей обо мне
И при каких обстоятельствах.
Так что винить свою дочь я не смел.
Я только мечтал еще раз увидеть
Свою Любовь Воробьеву,
Прекрасную студентку, стоящую одиноко
На смотровой площадке Воробьевых гор».
«Понятно, а что же представляет собой проклятие рода,
О котором ты говоришь загадками,
И которое мешает мне стать военным?»
«Ну, погоди, Коппель, давай сделаем небольшую паузу.
Вон гляди, стоит какой-то христианский храм.
Давай зайдем туда, а после
Я все расскажу тебе до конца.
Я, если честно, немного устал,
Но обещаю, что закончу свой рассказ сегодня,
Ведь завтра тебе уже надо в школу».
Я прочитал надпись перед входом, гласившую, что это был
Монастырь Двенадцати Апостолов,
Греческий и, простое ли это совпадение? православный храм.
Мы зашли внутрь главного храма монастыря.
Соломон подошел к какой-то иконе и погрузился в свои мысли.
Рассматривая фрески, я поднял глаза к куполу
И увидел изображения двенадцати учеников Христа.
Пытаясь вспомнить их имена, я переходил взглядом
От одного портрета к другому.
Остановившись на одном из них, я попытался вглядеться.
Вдруг, в глазах моих потемнело, а затем вспыхнуло.
Веки запылали изнутри разноцветными кругами.
Тихо охнув, я упал на пол базилики.
Два письма
Судя по всему, ничего страшного со мной не произошло –
Что-то вроде теплового или солнечного удара,
Что не было удивительным после долгих прогулок
Под жарким солнцем Капернаума.
Через день я был в полном порядке и пошел в школу.
Пожалел я о своем обмороке лишь спустя неделю.
Мы опять хотели поехать с Соломоном куда-нибудь,
Где мы бы остались наедине,
И он смог бы продолжить свой рассказ
О нашем роде и его загадочном проклятии.
Только этому не суждено было сбыться.
Могучий Шломо попал с инфарктом в больницу,
Где скончался, накануне Дня Иерусалима.
Не выдержало сердце воина-странника с удивительной,
Но спорной судьбой.
Возможно, его силы подорвало то,
Что в своих рассказах он снова прожил со мной свою жизнь
Со всеми ее ужасными и прекрасными переживаниями.
После смерти Шломо у меня оставалось еще много вопросов,
Но главным был – как мне теперь жить дальше?
Я привык во всем полагаться на себя
И принял решение, что я все-таки поступлю
В Командный подготовительный колледж
И изберу военную карьеру.
Я рассуждал так:
Во-первых, это снимает проблему опекунства,
Поскольку я мог спокойно проживать в общежитии колледжа.
Во-вторых, в чем заключается таинственное заклятие рода
Мне теперь не предстоит узнать,
Но скорее всего, там речь шла о том,
Что когда-либо мне придется встретить своего двойника в бою.
Я не видел в этом ничего сверхъестественного.
Мало ли среди пяти миллиардов человек на Земле
Людей, имеющих схожие со мной черты лица?
Я не был так похож на Соломона, как ему казалось.
У меня были типичные черты
Представителей «средиземноморской расы»,
Которые, говоря по-итальянски, una faccia una razza.
Так что подобные мне могут родиться в Ливане, Турции,
В Греции, в Магрибе, Южной Франции и даже в Закавказье.
В-третьих, рассуждал я, мне не грозит повторение
Военной судьбы Исраэля и Соломона.
То была эпоха, когда еврей не имел Родины,
А значит и понятие враг становилось для него размытым,
Так же собственно, как и понятие наши.
Сегодня все максимально ясно и понятно.
Существует наша маленькая, но гордая страна,
Которая находится во враждебном мусульманском и арабском окружении.
Теперь каждый мужчина определенно знает,
Где проходит линия фронта, в принципе не исчезающая почти никогда.
Пока я учился в колледже
У меня не было времени и возможностей
Для тщательного изучения дневников Соломона.
Тем более что для этого требовалось знание арабского языка,
Идиша и тюркских наречий.
Приезжать в наш дом в Иерушалаиме приходилось нечасто.
А если я и приезжал, то посвящал уйму времени тому,
Чтобы отвадить от Маши разных ухажеров.
Конечно, основную работу за меня делала тетя Ганна,
Мечтавшая о том, чтобы в будущем мы с ее внучкой были вместе.
Вообще-то, моя Маша росла девушкой скромной.
Тем не менее, я, что называется, отстреливал ухажеров
На самых дальних подходах.
В 18 лет я, как и все молодые парни, пошел в армию
Там я с гордостью получил желтую с оливковым деревом нашивку
Знаменитой бригады «Голани».
А возле Стены плача мне вручили
Вожделенную коричневую « кумту».
Успешно пройдя тиронут, продвинутое и сержантское обучение,
Я был рекомендован к поступлению на офицерские курсы.
А спустя полгода поступил в Командно-тактический колледж.
За время обучения в нем я сделал то,
Что поручал Соломон –
Прошел очень серьезную языковую подготовку,
В частности, в числе прочих выучил арабский и турецкий языки.
И вот после нескольких лет упорного обучения
Заместитель командира роты, «голанчик»,
Молодой сеген элитной боевой части,
Иаков бен Халфай делает предложение
Юной Марии Левинзон, внучке счастливой тети Ганны.
Я создал свою familia, и счастью моему не было предела.
Впервые, за многие годы, у меня возникло
Непередаваемое чувство полноценности.
Наверное, его смогут понять лишь те,
Кто пережил детство в сиротских приютах.
В порыве новых чувств я разыскал Артурика
И Леру Войнович (теперь Шац), которые тоже обзавелись семьями.
На встрече мы радовались и плакали,
Но чувство мирного равновесия и причастности
К такому великому понятию, как Любовь и Семья,
Преобладало над грустными настроениями.
Когда через год у меня родились близнецы –
Мальчики Натан и Ариэль,
Мое чувство полноценности переросло
В некий новый этап, который я мог бы назвать этапом Совершенства.
Мог бы.
Но нельзя быть военным в такой стране как Израиль
И не встретиться с тем, что мы зовем этим привычным
И ужасающим словом –
Война.
12-го июля 2006-го началось то,
Что впоследствии мы назвали
Второй ливанской войной.
Это была несколько странная война.
Несмотря на то, что боевая кампания носила название
«Достойное возмездие», мы успели окрестить ее между собой,
Как «Стеснительное возмездие».
Бойцы ЦАХАЛа горели огнем священного наказания,
Но складывалось такое впечатление,
Что мы пришли в Ливан больше отступать, нежели наступать.
Конечно, некоторые офицеры убеждали нас,
Что вся причина в варварской тактике Хизбаллы,
Сделавшей ставку на «живой щит» из мирных людей
Для своих подразделений и ракетных установок.
Но, между нами, когда есть линия фронта
И есть понимание наших и не наших,
Разве война не подразумевает допустимых потерь
Среди чужих, пусть даже с виду мирных, но, все же, врагов?
Разве не несут они общей политической ответственности
За то, что окружили поддержкой этих извергов из Хизбаллы?
Разве не поставлена на карту жизнь наших мирных жителей,
Ежедневно гибнущих под страшными ударами
Ракетных ударов террористов?
Неужели наш ответ не должен был быть адекватным
Злобному оскалу мусульманских отморозков,
Не щадящих даже собственных детей?
Так или иначе, выходя на поле боя,
Мы оставляли свои сомнения и возмущение позади.
Поэтому когда наше командование отправило нас
На прочесывание кварталов городка Бинт Джабейль,
Мы не роптали на недостаточное воздушное прикрытие,
А сосредоточенно подготовившись,
Отправились в этот роковой рейд.
Мы знали, что в городе оставалось еще много мирных жителей,
Но небезосновательно надеялись на свой опыт
И профессионализм, чтобы не уронить ни боевого,
Ни человеческого лица израильского солдата.
Когда мы шли по пустынным улицам Бинт Джабейля,
Я чувствовал еще одну особую ответственность –
Рядом со мной шел турай Моше Губерман.
Это был не кто иной, как маленький Мося
Из нашего детского приюта,
Носивший теперь новую фамилию своей новой семьи.
Мося вырос в высокого красавца со стальными мышцами
Солдата элитной армейской части,
Но с не сходившей с лица
Наивной, почти детской смущенной улыбкой.
«Мося, тихо шепнул я ему в самом начале.
Всегда держись рядом со мной
И не вздумай отстать!»
«Хорошо, Яша! Ой, то есть слушаюсь, сеген бен Халфай!»
Ни так, ни так в нашей роте было не принято обращаться,
Но в этом был весь Мося.
Мы продвигались по кварталам городка,
Фиксируя все, что движется, все, что может показаться подозрительным.
Надо сказать, что Бинт Джабейль вовсе не был так уж пуст.
То тут, то там, прячась за стены и осторожно оглядываясь,
Перед нами нет-нет, да и мелькали жители – женщины, дети.
Зрелище этих простых людей несколько расслабляло
Молодых и неопытных солдат.
Приходилось всегда поддерживать их в нужной форме.
За одним из поворотов мы вообще увидели большую группу арабов,
Торопящихся в мечеть.
Увидев нас, они заметно испугались, но продолжили свой путь,
Потому что, как мы поняли, они шли туда не для молитвы.
Они шли туда прятаться от нас и от возможного авианалета.
Подозрительных мужчин среди них трудно было углядеть –
Много детей, старух, пара священников, встречающих на входе.
Подержав их на мушке, на всякий случай,
Мы дождались, когда они захлопнут двери мечети
И двинулись дальше.
Но не прошли мы и двух кварталов,
Как на нас всей своей мощью
Обрушились бойцы элитного спецназа Хизбаллы
И открыли шквальный огонь.
В несколько мгновений наземь упало несколько наших бойцов
Раненными и, возможно, убитыми.
Я пинком выбил какую-то дверь рядом
И, схватив Мосю и еще одного молодого бойца за шиворот,
Впихнул их внутрь дома.
Прильнув к окнам, мы увидели, как наши бойцы
Выстрелами из гранатометов выбили другие двери
И тоже укрылись в близлежащих зданиях.
Проследив направления огня противника,
Мы поняли, что фактически находимся в окружении.
Несколько часов длилась ожесточенная перестрелка.
Командование не раз передавало нам по рации приказ убираться,
Но мы не могли этого сделать.
И не потому, что не могли прорвать окружение —
Практически бой шел за то, чтобы не отдать наших ребят врагу
Ни живыми, ни мертвыми.
Периодически мы выскакивали наружу, чтобы спасти раненых.
В одной из таких вылазок погиб и наш командир,
Накрыв собой гранату врага.
Когда подоспели вертолеты, бойцы были измождены «на нет».
Но кроме нас никто не мог бы вынести ребят из той мясорубки,
Поэтому нам приходилось возвращаться и возвращаться назад,
Туда, где сотни огненных жал
Продолжали выбивать из наших рядов
Одного за другим.
Причем мы боялись еще и попасть под огонь своей артиллерии,
Осуществлявшей для нас огневое прикрытие.
Но наши ребята делали все сверхточно и профессионально,
Нанося точечные удары туда, откуда уходили мы,
И это место заполнялось все новыми и новыми боевиками Хизбаллы.
Вот уже последний марш-бросок. Мы вынесли не только раненых,
Но и тела погибших.
Оставалось уйти из этого ада с группой,
Которая все время прикрывала эвакуацию.
По рации мы вели координацию с артиллеристами.
Тем уже не терпелось устроить на бывшем поле битвы
Настоящий Армагеддон для террористов.
«Уходите скорее, слышалось в рации.
Сейчас пойдет удар по квадрату N, на сто метров к северо-западу!»
Быстрее, быстрее – это ведь как раз за нашими спинами!
Мы неслись в сторону вертолетов,
И тут я почувствовал непривычную пустоту позади себя.
«Мося!» — молнией пронеслось в моей голове.
Оглянувшись, я увидел, что рядовой Губерман
Замер возле одной из бетонных стен ливанских укреплений
И, вскинув автомат, всматривается в глубину улицы.
«Мося, ты что, твою разэтак!? Бежим отсюда!»
Он поднял руку, указывая куда-то в дым, и прокричал,
Пытаясь переорать грохот выстрелов и взрывов:
«Там!… квадрат N — это там! Это…та самая мечеть! Там люди!»
«Мося, сейчас тут начнется ад, ты что…
Ты что, спасать их собрался, ненормальный!? Ты в своем уме!?»
Делая вид, что не слышит, Мося увернулся от меня
И, нырнув в дым, понесся в сторону мечети.
Я обернулся и заорал радисту: «Отбой!!! Отбой по квадрату N!
Там Губерман!»
Несколько бойцов остановились и побежали в мою сторону.
Пуля чиркнула меня по брови
И глаза моментально залило теплой кровью.
Я старался быстрее вытереть лицо, чтобы не потерять Мосю из виду.
Увидев его, уже подобравшегося к двери,
Я выпустил несколько очередей куда-то вдоль улицы
И ринулся к Мосе.
Тот уже вытащил наружу имама и орал ему что-то,
Указывая на здания напротив.
На том конце улицы кто-то резко крикнул команду по-арабски
И хизбуллахи, увидев гуськом выбегающих из мечети людей,
Прекратили огонь.
С силой подтолкнув последнего выбегающего мужчину,
Державшего за руку двоих пацанов,
Мося рванул в мою сторону.
Лицо его светилось озорной и счастливой улыбкой.
Я выпустил пару очередей по крышам домов
И уже ждал его, вытянув вперед руку,
Чтобы он укрылся за кучей камней, за которой я залег.
Когда я кричал, прося отбоя артиллерийского огня,
Бойцы не услышали меня – то ли из-за грохота взрывов,
То ли из-за шума вертолетных лопастей.
Когда Мося протянул ко мне свою ладонь,
Раздался страшный удар, а потом взрыв.
Старая мечеть в одно мгновение превратилась в груду камней.
Мося упал от взрывной волны, но потом быстро вскочил
И. перепрыгнув камни, рухнул возле меня.
Он задыхался от радости и возбуждения,
А я схватил его за шиворот и со всей силы встряхнул.
«Ты соображаешь, что ты делаешь!?
Я тебя под трибунал отдам, идиот!
Ты же не только себя подверг угрозе, но и ребят!
Быстро к вертушке!!!»
Перед тем как рвануть вслед за Мосей я оглянулся на улицу.
Мне показалось, что среди пыли и дыма
Сидит на коленях человек и беззвучно кричит,
Потрясая кулаками вверх, к небу,
А рядом с ним кто-то лежит ничком.
Больше нельзя было задерживаться
И я побежал к своим.
В вертушке Мося прижался к моему плечу и,
Заглядывая в мои глаза снизу вверх,
Как это было в далеком детстве, улыбался, счастливый и умиротворенный.
А потом в измождении он закрыл глаза и впал в тяжелую дрему.
Я обнял его и оглядел ребят – никого не забыли,
Никого не оставили.
Я украдкой вздохнул и немного расслабился.
Спустя несколько минут мне показалось,
Что мою руку, обнимавшую Мосю, заливает чем-то теплым.
Я посмотрел на нее. Вначале
Мне показалось, что это грязная вода из пробитого котелка.
Потом я резко поднял голову своего друга и понял.
Моше Губермана не надо было подвергать наказанию за безумный поступок.
Рядовой Мося умер.
Израильское общество потом долго обсуждало,
Что же произошло на той войне?
Кто-то говорил о военном поражении,
Кто-то о психологическом.
Даже офицеры давали волю эмоциям.
Я не принимал во всем этом участия никак –
Ни риторически, ни эмоционально.
Боль за гибель однополчан
Конечно же, не давала мне покоя.
Но я знал, что настоящий офицер
Должен быть психологически готов
Даже к потере друзей на фронте.
Иначе к следующей угрозе Родине
Он подойдет раскисшей в эмоциях
Нестабильной личностью.
Тогда я лишь возненавидел всем сердцем
Околовоенную пропаганду,
В которой противостояние наших и не наших
Приобретает какие-то особо циничные формы.
Злоба душила еще и потому,
Что выдумывали ее чистенькие и гламурные
Журналисты и такие же военные идеологи
В безупречных и глаженых мундирах.
Враждебная нам пресса твердила о зверских убийствах,
Которые осуществляли мы.
Наша пресса – о том, как цинично и хладнокровно
Расстреливали хизбуллахи наши мирные кварталы.
«Горе побежденному!» слышал я голос Соломона.
Больше всего меня возмутило и потрясло до глубины души
Появление в мировой прессе фотографий,
Которые кто-то сделал в Бинт Джабейле.
Особенно две из них,
На одной из которых было изображено,
Как огромный и свирепый израильский солдат
Злобно толкает в спину мужчину-араба,
Держащего за руку двух мальчишек.
А на другой – этот же мужчина-араб с залитым кровью лицом
Обнимает трупы двух своих убитых сыновей.
«Ладно, уроды, сказал я себе.
Вы сделали из героя Моси убийцу,
Шакалы пропаганды.
Что ж, суньтесь сюда еще,
И вы все получите свою долю свинца,
Который не будет выбирать, кто солдат,
А кто его пособник и провокатор!
И я впредь не позволю, чтобы такие как Мося,
Шли на фронт с мягкими и незащищенными сердцами!
Вы прикрываетесь своими глупыми гражданскими?
Хорошо, вы пожнете свою жертву сполна!»
Так я говорил себе, но что я чувствовал на самом деле?
Я ощущал, что сердце мое,
Как танк «Меркава», покрывается слоем черствой брони.
Только один образ не позволял этой броне
Захлопнуть свою оболочку навсегда,
Как бы я не отгонял его от себя.
Это выражение абсолютного мальчишеского счастья
Которое было на лице турая Губермана,
Когда он спас этих людей от смерти.
Не найдя нигде эмоционального выхода
Из этого противоречия,
Я почему-то стал все больше углубляться
В чтение дневников Исраэля и Соломона.
Теперь я мог это сделать – в них уже не было
Ни одного неизвестного мне языка.
Более того, я однажды решил, что хочу узнать побольше
О моей бабушке, Любови Воробьевой.
Родителей ее наверняка уже нет в живых,
Но может кто-то что-то помнит?
Может, остались еще какие-нибудь родные моей мамы?
Еще за полгода до войны я засел за интернет
И начал интенсивную переписку с властями России
И Узбекистана, столицей которого
Теперь был загадочный и далекий Ташкент.
И что же? Я узнал много интересного!
Воробьевы старшие действительно уже умерли,
Но у мамы, оказывается, есть старшая сестра, тетя Марина.
Она с радостью ответила мне и рассказала,
Что родители Любы не были уж такими упертыми коммунистами
И вообще не хотели, чтобы дочь уезжала
На целину в неизвестный Казахстан.
Отца Любы – Сергея Константиновича,
Во время кампании порицания дочери
Даже принуждали отказаться от нее и публично осудить,
Но тот категорически не стал этого делать,
За что поплатился блестящей карьерой ученого.
Родители Любы всегда поддерживали связь с дочерью,
Но виделись достаточно редко
По понятным причинам.
Однако они, все же, успели принять участие
В судьбе моей мамы. Как? Вот это очень интересно.
У тети Марины, к сожалению, детей нет,
Так что надежда на появление кузенов и кузин
У меня угасла. Но через некоторое время
Я узнал более потрясающую новость!
Марина рассказала, почему моя мама
В 1976-м году приезжала в Москву и вернулась
Обратно в Ташкент. Дело было совсем не в том,
Как думал Соломон, что она «не смогла учиться».
Оказывается брак матери с моим отцом
Был у нее вторым!
Мария Воробьева, окончив ташкентскую школу,
Приехала и поступила в МГУ,
Где на одной из студенческих вечеринок
Познакомилась с иностранными студентами
Из Университета имени Патриса Лумумбы.
Через два месяца бурного романа с неизвестным Марине
Иностранным студентом
Она выходит за него замуж, не спросив ни у кого разрешения!
Но тут в Москву приезжает рассерженная бабушка Люба,
Которая хочет навести порядок в жизни дочери
Но, к своему удивлению, застает дочь несчастной и брошенной.
Иностранный студент, не успев закончить обучение
Срывается куда-то к себе на родину
И оставляет мою мать одну.
Бабушке Любе очень знакома эта ситуация.
Она волевым решением забирает дочь из Москвы,
Потому что… потому что та ждет ребенка,
Который рождается в 1977 году.
Бабушка решительно записывает его (или ее, неизвестно) на себя
И разрабатывает с Соломоном план спасения дочери.
Как известно, это спасение состоялось благодаря еврейской алии.
Любовь Сергеевна обращается к своему отцу за помощью,
И тот знакомит внучку с молодым и талантливым
Ученым Алфеем (Феденькой, как говорит тетя Марина),
То есть с моим отцом.
Маме очень повезло. Отец почему-то сразу и сильно
Полюбил маму. Это и я помню по некоторым воспоминаниям.
А идеологом «табу на все русское» оказалась моя мать,
Желавшая, может, навсегда забыть свою первую несчастную любовь,
А никак не отец.
Но тогда, если бабушка Люба умерла,
То где ее ребенок, вернее ребенок Марии?
Ведь он же (или она) мой единоутробный брат (или сестра!).
Представляете, какое я испытывал возбуждение?
Этого, к сожалению, тетя Марина не знала,
Потому, что бабушка Люба всячески скрывала
Эту страницу жизни и несчастной любви дочери.
Почти год у меня ушел на переписку с узбекскими властями.
В конце концов, мне удалось по социальным сетям в интернете
Выйти на тех, кто знал бабушку – на ее соседей.
Я нашел женщину, которая была дочерью подруги бабы Любы.
Она лишь помнила, что у них во дворе был мальчик,
Которого считали маленьким сыном Воробьевой.
Но соседи всегда знают про всех все. Они судачили,
Что это на самом деле ее внук,
Ребенок «еврейской отказницы», которая «сбежала в свой Израиль».
Однако потом этот мальчик исчез, куда-то уехал,
Поэтому мало кто помнит, кто он, как его звали и как выглядел.
Дочь соседки (Аня) обещала написать своей матери в Воронеж,
Где она теперь живет со своим сыном, но предупредила –
Мать очень старая, и вряд ли что-то помнит.
Я порылся в старых фотоальбомах и отправил ей,
На всякий случай, детские фото, свое и Натана,
В тайной надежде, что старая соседка
Найдет какие-нибудь общие черты и вспомнит.
Спустя какое-то время я получил коротенькое сообщение от Ани,
Что ее мать помнит все очень даже замечательно
И сама напишет мне письмо – очень уж любила она мою бабушку.
Аня просила не беспокоиться, что письма идут долго,
Она попросит брата отсканировать его и переслать мне по е-мейлу.
Но потом началась «вторая ливанская»,
И я еще долгое время не продолжал переписку,
Вообще забыв про свою страницу на Фейсбуке,
Через которую мы общались с Аней.
Лишь только вернувшись к чтению дневников деда,
Я постепенно восстанавливал свой интерес
К поиску брата, потерявшегося где-то в бескрайних просторах
Бывшего Советского Союза.
У меня оставался последний дневник Соломона,
После изучения которого я надеялся,
Что разгадаю все загадки своих пращуров
И расскажу о них своим сыновьям,
Когда те достаточно подрастут.
Послевоенные раны на сердце
Потихоньку стали уступать место обычным жизненным эмоциям.
Однажды, мы поехали с семьей на море
Отдохнуть в выходные.
Я попросил начальство прибавить мне к уик-энду
Один день отгула – понедельник,
Чтобы подольше побыть с детьми и Машей.
По дороге Маша спросила меня:
«Яшенька, а как твоя переписка по поводу брата?
Что-то ты давно не рассказывал мне ничего нового».
Я промычал что-то в ответ, а она строго и нежно сказала:
«Так нельзя. Уже больше года прошло,
А ты все живешь, замуровав в себе эмоции
Словно в каменном саркофаге.
Я думаю, тебе не стоит сосредотачиваться только на записках деда.
Там столько всего страшного,
Что это не отвлекает тебя от тяжелых мыслей, а наоборот.
Так что послушай-ка меня, дружок.
Восстанови-ка ты переписку с Россией.
Ведь ты потратил столько усилий до войны.
И потом, люди ведь искренне помогали тебе,
А ты оказался неблагодарным и невежливым.
Иаков, это ведь у нас идет постоянная война,
Это наш, уже, к сожалению, привычный образ жизни.
Там в России многое по-другому, люди могут тебя не понять.
Поэтому продолжай поиски, а когда найдешь брата,
То возьмешь отпуск, и мы поедем на мою первую Родину.
Я покажу тебе места своего детства.
И там мы соберем за одним столом
Нашу большую семью – нашу familia.
Ведь, наверное, у твоего брата тоже есть дети?
Вот, и сыновьям твоим будет радости
Познакомиться со своими доданим.
Я хочу, чтобы ты сохранял в себе светлое начало, Иаков.
И ты должен это сделать ради сыновей.
Даже, несмотря на то, что твоя профессия – война,
И для нашей Родины – она постоянное состояние.
Ведь если мы, евреи, утеряем в себе светлое начало
В чем тогда смысл всех тех потерь,
Которые предки понесли ради нас, сегодняшних?».
Я остановил машину и нежно обнял свою любимую.
Она была права, и я клятвенно пообещал,
Что сделаю все, как она говорит.
Я пообещал ей всегда оставаться светлым,
Несмотря ни на какие невзгоды.
В те выходные я очень сильно почувствовал,
Каким лечебным бальзамом оказались для моей души
Слова моей Маши, моей единственной и нежно любимой.
На обратном пути мы решили остановиться в Димоне
Купить кое-каких продуктов,
Чтобы приехать домой и остаток дня
Просто проваляться с детьми перед телевизором,
Не выходя в мир внешний, наслаждаясь миром внутренним.
Я притормозил возле какого-то торгового центра,
Сказал Маше, чтобы она пока шла с мальчишками за покупками,
А я заскочу в какое-нибудь интернет кафе.
Машенька улыбнулась, понимая, что мне не терпится
Начать выполнять ее заветы и зашла внутрь магазина.
Я зашел на Фейсбук, и мне стало стыдно.
Там было с десяток сообщений от Ани,
Которые я оставил без ответа.
Однако обиды в ее письмах не чувствовалось.
Наоборот, обеспокоенность, все ли у нас нормально?
Ведь у нас была война, обстрелы, она все понимает.
Обрадовало меня одно из последних сообщений,
Правда, которому было около трех месяцев.
Там говорилось, что пока я молчал,
Анина мама сама разыскала моего брата!
Аня просит срочно выслать ей мой электронный адрес,
На который она перешлет письмо матери.
А еще она перешлет мне письмо,
Которое брат, не зная моего адреса,
Отправил для меня на ее е-мейл!
Я понимал, что так мало подробностей
Только из-за того, что я сам пропал.
Я быстро отослал свой электронный адрес Ане,
Моля небеса, чтобы она не забросила Фейсбук
По какой-нибудь причине!
Я не побежал, а полетел к своей семье,
Чтобы побыстрей рассказать обо всем Маше.
Вот я уже вижу ее сквозь стекло магазина.
Вот она машет мне рукой.
Сейчас, милая, я бегу к тебе, я помогу тебе с сумками,
Я посажу и тебя и мальчишек на шею, и мы полетим домой!
Это был город Димона. 4-е февраля 2008-го года. 10.30 утра.
Взрывной волной меня отшвырнуло к какой-то машине
И со всей силы ударило об нее.
В глазах моих потемнело, но военная выучка приказывала,
Что нельзя терять сознание.
Сквозь туман я увидел, что рядом со мной упал сотовый телефон,
И какой-то человек присел рядом со мной, чтобы поднять его.
«Надо же, какое хладнокровие!» – мелькнуло в моей голове.
Я видел, как человек пытается набрать номер,
Но телефон, очевидно, вышел из строя после падения.
Тут меня осенила кошмарная догадка.
Телефоном он пытается активировать другую бомбу!
Я попытался крикнуть, но рот мой был полон крови.
Я был сильно контужен взрывом.
В этот момент до меня словно издалека донеслись звуки выстрелов.
Человек отшвырнул телефон и в следующее мгновение
Наши глаза встретились.
Он рывком поднял меня и прислонил к машине.
Вблизи я увидел его жестокие серые глаза.
Он буравил меня своим взглядом.
Я начал терять сознание, и взгляд мой упал на его руки.
На его правой кисти была маленькая татуировка скорпиона.
В это мгновение передо мной промелькнула картинка
Из курса антитеррористической подготовки.
Такой рисунок накалывали себе не простые боевики,
А специальный отряд мстителей,
В который набирались исключительно те,
Кто имеет личные счеты с ЦАХАЛом и Израилем.
У кого погибла семья или близкие,
И кто готов посвятить всю свою жизнь мщению.
Скорпион означал, что они не будут сдаваться в плен,
Потому, что это грозит им жестокой расправой
Со стороны тех, кто в свою очередь
Может предъявить им кровавый счет
Хладнокровных убийств.
Началась суматоха, поэтому этот человек и поднял меня,
Чтобы сойти за помогающего пострадавшим.
Он улыбнулся мне холодной и безжалостной улыбкой
И медленно, не привлекая к себе лишнего внимания,
Пошел прочь.
Тщетно я силился что-то сказать полиции.
Из окровавленного рта лишь раздавалось мучительное мычание.
Внутри меня все кричало: «Вот он! Держите его!
Перед вами настоящий организатор теракта!»
Отчаявшись, я закрыл глаза и тут меня накрыло
Страшное осознание того, что произошло со мной лично.
Почему-то я вспомнил тот день,
Когда пришли эти мужчина и женщина в черном,
Сообщившие мне, что я теперь остался один.
Я опять увидел их перед собой.
Они смотрели на меня, а за ними стояли мои папа с мамой,
Натан,….. Машенька и…
Я не стал долго валяться в госпитале.
Едва успев похоронить Машу и мальчишек,
Я попросил перевести меня
В специальную антитеррористическую группу
Летающих леопардов — «Саерет Голани».
Нас перебросили на юг
Чтобы быстро и решительно свершить возмездие
Над теми, кто причастен к теракту в Димоне.
Мы рыскали вдоль границ сектора Газа,
Как свирепые псы саванны,
Уничтожая всех, кто мог держать оружие.
Я не сдержал свое обещание, данное Маше.
Я был черным, черным во всем –
В чувствах, в поступках и даже внешне.
И самое главное, не испытывал ни капли Сомнения.
Однажды в полдень мы получили наводку
От ребят из Саерет Маткаль,
О том, что по одной из дорог
Движутся два автомобиля с террористами.
«Твой день, Иаков, сказали мне разведчики из Маткаля.
Говорят это твои кровники – Скорпионы».
Ни к одному параду я так тщательно не готовился,
Как к этому рейду.
Заряжая магазины, я молил Бога только об одном,
Чтобы каждый патрон достиг врага и призвал к нему Азраила.
Мы залегли на рыжей равнине,
Скрываясь за складками местности так,
Что были не выше ростков лохматого цабар мацуй.
К нам быстро приближались два джипа
С установленными в кузове крупнокалиберными пулеметами.
Бой был коротким и безапелляционным.
Подорвав обе машины, мы били, били и били,
Пока из-за остовов джипов
Не прекратился массированный огонь.
Оставшиеся в живых бандиты отвечали нам
Лишь редким огнем из пистолетов.
Я не стал дожидаться, пока снайперы положат последних.
Перебегая от кочки к кочке, я приблизился к джипам
Со стороны мертвого для видимости обороняющихся сектора.
Я хотел видеть их умирающими и добить тех, кто цеплялся за жизнь.
Обогнув один из джипов,
Я поразил двоих террористов.
Оставался один, продолжавший вести огонь
Из-за второй машины.
Резким рывком я выскочил из-за укрытия, и
Оказался лицом к лицу с арабом.
Вот именно, что лицом к лицу,
Потому что я мгновенно узнал это лицо.
Это был… Я!
Только он был немного худощавее и выше.
Моджахед вытянул вперед руку с пистолетом и тоже замер в изумлении.
Ничего не осталось в мире, только наши глаза,
Ведущие только нам понятный диалог.
Выражение глаз араба сменилось на любопытство.
Казалось бы, вечность мы стояли так,
Направив друг на друга оружие.
Было видно, что мысли и слова бешено крутятся
В голове у этого парня, словно он вспоминает что-то,
Перебирает картинки, слова, образы и воспоминания.
Я думаю, что выглядел также.
Напряжение наших рук, сжимающих оружие,
Начало медленно ослабевать.
Казалось бы, вот-вот и мы обратимся друг к другу со словами…
Приветствия? Вопроса?
Араб начал осматривать меня с любопытством и тут…
Его взгляд упал на мою желто-оливковую эмблему бригады.
И серые глаза моджахеда
Наполнились вначале невыносимой болью,
А потом и ненавистью.
В свою очередь я увидел маленький знак скорпиона не его руке,
Поднял глаза и узнал этот взгляд серых глаз,
Преследовавший меня каждую ночь
После рокового дня в Димоне.
Мой мозг мгновенно разбудил целый сонм образов.
Я видел Мосю, Машу, Натана и Ариэля,
Я видел Рои Кляйна и ребят, павших в Бинт Джабейле.
Что увидел араб в это мгновение?
Я не знаю, и, наверное, не узнаю никогда,
Потому что в следующее мгновение
Мы нажали курки нашего оружия.
Каждый свой.
Я возблагодарил боевую подготовку,
Которую получил в бригаде Голани,
Потому что моя очередь из автомата
Оказалась быстрее его пистолета.
Выстрел «скорпиона» ударил меня в плечо,
Но я успел выпустить длинную очередь во врага
И упал навзничь.
Тут подоспели мои ребята и парни из Маскаль…
«Иаков, спросил меня позже сеген разведчиков Генштаба,
Ты чувствуешь себя отмщенным?»
Я лежал в медсанчасти и эмоционально
Больше походил на дерево со своего шеврона,
Нежели на человека.
«Сколько пройдет еще лет или десятилетий, Шауль,
Прежде чем Израиль почувствует себя отмщенным…»
Шауль помял берет в своих руках и проронил:
«Значит, эта война будет бесконечной, Яша?»
«На наш век хватит, Шауль».
«А как ты думаешь, кто-нибудь способен остановить это?»
«Я просто не представляю, Шауль, что нужно сделать для этого».
«Ну, ладно, Иаков, война так война,
Вечная так вечная.
Только обещай мне, брат,
Если вдруг, когда-нибудь ты поймешь, как это сделать. Остановить..
Ну, без всяких там пацифистских и педерастических штучек…
Дай мне знать, ладно?
Ты ведь будешь в курсе, где меня найти –
Я буду совсем рядом, на войне».
Он надел берет и вышел.
А я продолжал оставаться черным.
Когда я вышел из госпиталя,
Самым тяжелым было для меня возвращение домой.
Я проходил мимо комнат детей и спальни,
Делая вид, что не вижу, существуют ли они вообще,
И шел прямиком в кабинет.
Там я садился в кресло
И, закрыв глаза, молча сидел.
Вы думаете, что я вспоминал? Детей?
Нет. Это было слишком мучительно.
Я видел только Машу, только ее одну.
Почему-то образ любимой меня успокаивал, жалел,
Разговаривал со мной и опять просил меня стать светлым.
Но где!? Где я смогу найти источники света!?
Взор мой упал на последний дневник Соломона.
Я вынул его из книжного шкафа
И стал равнодушно перелистывать страницы.
Вдруг из блокнота выпало несколько листков бумаги,
Которые явно были свежее, нежели желтые страницы дневника.
Дрожащими руками я открыл их
И кровь хлынула к моей голове.
Это был почерк Соломона, его письмо ко мне.
Я развернул письмо и принялся читать.
Вот, что там было написано:
«Дорогой Иаков,
Рассказывая тебе о своей жизни,
Я стал ощущать, что с каждым эпизодом
Иссякают мои жизненные силы,
И Азраил рыщет где-то уже совсем рядом.
Ты так занят уроками,
Что я не стану тебя отвлекать до выходных.
Но когда ты потерял сознание в храме,
Я вдруг почувствовал, как тонка нить жизни,
Объединяющая нас.
И еще я понял, что не имею права
Оставить тебя, как обычно поступала с тобой судьба,
В недомолвках и недосказанности.
В особенности это касается той темы,
Которую ты всегда жаждал услышать,
А я, что и говорить, старый дурак,
Не успевал тебе про нее рассказать.
Да, Коппель, это про наше родовое проклятие.
Как ты уже догадался, моя фамилия совсем не Кохен.
Ее я взял, чтобы хоть как-то избавиться
От неизбежности выбора тобой и моими потомками
Военной судьбы.
Ты уже успел понять, что красной нитью
Через судьбы наших мужчин проходит неизбежность
Встречи с теми, кто как две капли похож на нас.
Да, наше заклятие идет именно по мужской линии,
Поэтому не имеет значения то,
Насколько галахическим евреем является
Тот или иной представитель нашего рода.
Тебе может показаться,
А скорее всего, так и показалось,
Что речь идет о простом внешнем сходстве
Между собой воинов прошлого и настоящего.
Это не так.
Начну с самого начала.
Наш род ведет свое начало от Омара,
Внука самого библейского Эсава,
Которого однажды обуяла страсть убийства собственного брата,
Твоего тезки — Иакова.
Потомки Эсава родили царей Идумейских,
Но ветвь Омара не рождала царей.
Она создала династию воинов,
Веками оберегавших идумейский трон.
Служили они и Антипатру Эдомскому,
Пожелавшему вмешаться
В междоусобицу между братьями Хасмонеями –
Аристобулом и Гирканом.
Эта ужасная междоусобица,
В конце концов, привела к гибели Дома Хасмонеев,
Уступившему место Эдомитянским царям – Ироду и его потомкам.
Во время этой гражданской войны,
А из моих рассказов, Коппель, ты знаешь,
Что ничего ужаснее ее не бывает,
В страну пришли римляне
И осадили Бет ИХВХ вместе со сторонниками Гиркана.
Военачальник Помпея Габиний
Взял штурмом Храм.
Когда римляне, гирканцы и гвардия Антипатра
Ворвались в Храм, то увидели,
Что священники-коханим проводили службу,
Не обращая внимания на боевые действия.
Среди захватчиков был и наш пращур Арье –
Командир гвардии идумеян.
Разъяренные римляне принялись казнить священников
Последнему из них перед смертью выкололи глаза,
И он, перед тем как принять смерть,
Простер вперед руку
И произнес страшные слова проклятия,
Которое говорило о том, что всякий воин,
Представитель проклятого рода,
Будет обречен искать своих братьев, убивать их и истреблять
До тех пор, пока не исчезнут все войны на земле.
Или не исчезнет их род с лица земли навсегда-навсегда-навсегда.
Священник посвящал это проклятие братоборцу Гиркану,
Но будучи ослеплен, указал на генерала Арье.
Вот так мы и стали «вечными жидами войны», Коппель.
Теперь ты понимаешь, почему я был против
Твоего желания стать профессиональным военным.
Словно вопреки проклятию священника
В один из периодов истории
Наш род разросся и распространился по всему миру.
Однако позднее я понял почему –
Для того чтобы его падение и исчезновение
Было наиболее показательным и страшным.
Это я и называл галутом нашей семьи, Иаков,
И теперь ты понимаешь, что это
Отнюдь не литературное сравнение.
Библейский род Эсава и его внука Омара
Породил много поколений воинов.
Все они гибли и уничтожали друг друга с вдохновением,
Которому может позавидовать любой сочинитель историй.
Ты себе не представляешь, Иаков,
В какое огромное дерево может разрастись один род.
В моей последней записной книжке
Ты увидишь те схемы древа семьи, которое я смог восстановить.
Самое интересное, что и ствол родового дерева
Перемещался по странам, нациям и континентам так,
Что мне трудно было поверить,
Как он в ХХ веке вернулся обратно к еврейской линии.
В схеме древа ты увидишь следы великих империй персов,
Греков и ассирийцев, тюрков и арабов, англосаксов,
Славян и германцев. И всюду, куда проникало наше семя,
Оно несло за собой печать проклятия междоусобицы.
Но любая нация, словно от болезни,
Всегда инстинктивно стремилась избавиться от наших родичей,
Поэтому мы не только сами истребляли друг друга,
Но и были гонимы иммунитетом новых народов
К выживанию на исторической арене.
Даже когда наступало мирное время,
И войны не выкашивали воинские ряды,
Судьба все равно находила способы
Избавиться от возмутителей спокойствия
Нашего с тобой роду-племени.
Вот так к XX-му веку, богатому на войны и насилие,
Мы пришли жалкой веточкой,
На которой ты, мой внук, скорее всего, являешься
«Последним из могикан».
Что будет, если на тебе прервется род? Я не знаю.
Когда угасла ветвь моих кузенов – Натана и Ариэля,
Осталась только моя родовая линия.
Может поэтому меня судьба берегла и не убивала?
Натана, члена Jüdischer Ordnungsdienst в варшавском гетто
Казнил собственный брат-близнец Ариэль,
Который был членом подпольного сопротивления.
Сам Ариэль немного пережил брата –
Он бесследно сгинул в аду Освенцима.
Таким образом, в сороковые годы
Продолжателем рода Эсава
Оказался лишь парень из дивизии СС «Гитлерюгенд».
Теперь о некоторых пояснениях, связанных с теми историями,
Что я рассказал тебе в Капернауме.
Дитрих Ройтерманн не был просто похожим на меня немцем.
Его предки происходили из рода,
Который возник после смешения
Римских peregrini из Сирии и воинов Алариха.
Казалось бы, на каком-то этапе
Они вообще утеряли всякие доли кровей
Представителей Эрец-Исраэль.
Однако история потомков германцев,
Разделивших взгляды Яна Жижки и его таборитов,
А вернее их жестоких междоусобиц,
Говорит о том, что галут Эдома – это проблема не только семитов.
Потомки таборитов осели много позднее в чешских Судетах,
Откуда был родом Ройтерманн.
Казалось бы для полного сходства это очень тонкая нить.
Но самое интересное в том,
Что у Дитриха были крови тех ашкеназов,
Которые были потомками свирепых хазарских воинов.
Такой ашкенази была его родная бабушка.
Что касается сходства Исраэля с Энвер-пашой,
То тут все намного проще.
Жена Исраэля была родом из Бессарабии,
Где родился великий турецкий генерал-авантюрист.
Ее деда звали Омар, и был он чистейшим гагаузом,
То есть тюрком. У него даже было прозвище «турок»,
Которое попало в архивы.
Самое интересное, что одними из лучших подразделений
Басмачей Давлатманд-бия и Энвера,
Были хазар̀а – тюрки Афганистана, утерявшие свое наречие.
В общем, Коппель, ты понимаешь,
Что мы всегда и везде убивали своих братьев по крови,
Ни много, ни мало.
Читай дневники, внук, оттуда ты узнаешь много
Не то чтобы интересного, но и кажущееся парадоксальным,
Даже подчас невозможным.
Например, как потомок выходцев из Алтая,
Японский офицер Накамура
Пал от руки своего кровного брата Ли Цзычаня в Маньчжурии,
Потомка алтайских гвардейцев хана Хубилая.
И при этом они были похожи друг на друга,
Как отражение в зеркале.
Или, как казак Ермак Тимофеевич остановил свой сабельный удар,
Увидев, что татарский батыр Кутугай
Является его собственной копией,
За что получил удар копьем прямо в горло.
Я всегда не верил, Коппель, что храбрый атаман
Бесславно утонул в сибирской реке.
Таких историй много в моей последней тетради.
Просто продолжая традицию Исраэля,
Которого жизнь заставила учить тюркские и иранские наречия,
Я продолжал писать ее арабскими буквами.
Так что повторюсь еще раз – учи арабский, учи языки,
Пока Вавилон вновь не соединил людей
В единое целое.
Ты узнаешь, как много было раньше, в разные эпохи
Представителей нашей familia по всему миру,
Но галут нашей семьи, в конце концов, привел к тому,
Что мы скоро исчезнем с лица этой земли.
Ну, наверное, и поделом, если с нами исчезнет Война.
Но все же заклинаю тебя, Иаков!
Не иди на военную службу.
По моим данным ты последний из рода,
Тебе не на кого больше поднимать свой меч,
И более ничей меч не спешит к тебе навстречу.
Кто-то должен остановить это, как? Я не знаю.
Только если ты, вдруг узнаешь,
Дай мне знать. Ты в курсе, где меня найти.
Если я не буду рядом, на какой-нибудь войне,
То буду наблюдать за тобой с небес.
Подпись: Твой дед Соломон бен Исраэль из угасающего рода Арье».
Я взволнованно вскочил и заметался по кабинету.
«Глупый старик! – в сердцах восклицал я.
Последний из могикан… Как же!
А если у меня будут сыновья?
У меня ведь есть сыновья, близнецы — родные братья!?»
Тут я рухнул в кресло,
Потому что осознал,
Что нет у меня сыновей теперь.
Я уронил голову на руки и зарыдал,
Нет, скорее завыл!
Может это род человеческий очищается от нашего племени?
Может мы некий символ для кого-то?
Для того чтобы люди поняли что-то?
Да полноте, ужели народы еще не поняли
Всю бессмысленность и жестокость войны?!
А может мой род и есть носитель этого упрямого
Кода непонимания,
Который раз за разом
Толкает нации к тому, чтобы они поднимали меч?
Вдруг я вспомнил,
Вспомнил и устремился к компьютеру.
Нет-нет, старый Соломон ошибается.
Я поеду в Россию и найду своего брата,
Своего родного брата!
Я ведь не Арье, я Алфеев.
Пусть мне придется бросить военную карьеру. Пусть!
Я должен увидеть брата,
Чтобы… если даже и не сесть с ним за один
Праздничный стол,
То хотя бы предупредить о мрачном заклятии коханим Второго Храма.
На странице своей почты я увидел послание от Ани.
Ты – мой ангел, Аня!
Тебя-то уж точно послал мне не черный демон войны!
Послание гласило:
«Яков, ну наконец-то!
Я рада, что у вас все нормально!
Пересылаю вам письмо вашего брата.
Мамино куда-то затерялось,
Но, в ожидании вашего ответа,
Я прочла письмо Якуба (так зовут вашего брата).
Вы уж не сердитесь на меня, ладно?
Так вот, в нем он рассказывает все то,
Что хотела поведать вам мама,
Но более точно и подробно.
Оно было написано очень давно,
Но я не думаю, что с той поры
Что-то могло сильно измениться.
Там есть все адреса и координаты Якуба,
Так что, думаю, вы уже не потеряете друг друга
Никогда-никогда-никогда.
Я искренне надеюсь, что вы встретитесь,
А тогда приезжайте к нам в Россию,
Познакомимся, будем общаться,
Раз уж нам выпала судьба узнать друг друга.
Рада за вас от всего сердца. Анна».
С нетерпением я кликнул на ссылку письма
И принялся читать.
«Здравствуй, дорогой брат Иаков!
Пишет тебе твой…хотел написать «единоутробный»,
Но напишу все же «родной» брат.
Зовут меня Йакуб, это такое же имя по-арабски,
Что и твое. Удивительно, не правда ли?
Я и не подозревал, что у меня есть брат,
Хотя допускал такую мысль,
Потому что в самом детстве «добрые соседи»
Открыли мне тайну моего рождения,
Что я не сын мамы-Любы, а ее внук,
А моя родная мама уехала в Израиль с новым мужем.
Я догадывался, что где-то далеко от Ташкента
У меня могут быть брат или сестра,
А может даже и несколько.
Я вначале очень сердился на мать,
Что она бросила меня,
Но потом, правда, далеко не сразу,
Я простил ее в своем сердце.
Это помогла мне сделать моя возлюбленная жена – Аиша.
Но, расскажу тебе все по порядку.
Тебе может показаться из рассказов других людей,
Что мой отец несправедливо обошелся с нашей мамой
И бросил ее. Это не так.
У них действительно была очень сильная и красивая любовь.
Просто мой отец – Омар Аль-Файиз,
Палестинец по происхождению,
Был вынужден бросить учебу в Москве,
Чтобы вернуться в Израиль и похоронить своих родителей.
Мой дед по отцу так любил мою бабушку,
Что когда она умерла, очень быстро угас и ушел за нею.
Отец остался один и долгое время не мог
Не то чтобы продолжить учебу,
Но и вообще приехать в Советский Союз.
Но в 1986 году, узнав о смерти мамы-Любы,
Он нашел возможности и средства приехать в Россию
И забрать меня.
Только мы уже не вернулись в Израиль.
Какое-то время жили в Европе,
В Париже и Праге,
А потом переехали в Ливан.
У меня не такая уж интересная жизнь, брат,
Чтобы рассказывать ее как сюжет книги.
Я закончил медицинский, по образованию — детский врач.
В начале этого тысячелетия я женился.
Мою супругу зовут Аиша, я тебе об этом писал.
Она тоже палестинка.
Иаков, скажи честно, ведь ты не считаешь нас, палестинцев, врагами?
Я знаю, у нас очень старая история войны, интифады и взаимной ненависти.
Но я человек далекий от политики,
Хотя, конечно же, патриот своего народа.
Но в нашем случае было бы глупо,
Не видевшись столько лет,
Проводить между собой красную линию фронта, как ты считаешь?
Ну, конечно, если вдруг тебе не позволят твои убеждения…
Нет, Иаков, позволь мне в это не верить.
Я все же уверен, что на нашей земле…
На нашей вместе земле когда-нибудь воцарится мир.
А может такие люди, как мы, и принесут его?
У меня были сложные отношения с отцом,
Поскольку он был именно активным политическим деятелем.
Вся жизнь его ушла на непрерывную борьбу против оккупации.
С детства он пытался научить меня
Всяким военным, конспиративным и правовым знаниям.
Учил закалять тело и характер,
Но воина из меня не вышло, хотя я ничуть не сожалею об этом,
Потому что, на мой взгляд, тем, что лечу детей,
Я приношу своему народу ничуть не меньше пользы,
Чем это делают борцы политического фронта.
Не побоюсь показаться банальным, но, все же, напишу это –
Я верю, что у этих детей будет другое будущее.
Аня мне сказала,
Что ты великолепно говоришь и пишешь по-русски,
Отсюда и выбор языка моего письма.
Хотя, как рассказывала мама-Люба,
У нашего деда были потрясающие знания разных языков.
И она считала, что нам они должны передаться.
Я свободно пишу по-английски и по-французски.
Вот, к сожалению, иврит так и не выучил.
У меня растут два сына, они погодки.
Их зовут Зайдулла и Асадулла.
Иаков, а у тебя есть дети?
Мы с Аишей мечтаем познакомиться с твоей супругой.
Как прочтешь это письмо, передай ей большой привет от нас.
Наш дом находится в Бейруте.
У нас в стране пока не лучший период,
Но мы можем спокойно встретиться где-нибудь в Европе
Или в России, или даже в Ташкенте!
Да вообще можем везде, мир ведь такой огромный.
Я пишу это письмо и так волнуюсь.
Прости, если оно получилось сумбурным.
Пожалуйста, отвечай поскорей,
Мы будем ждать с нетерпением!
Мы ведь теперь большая familia.
Завтра мы уедем из Бейрута —
Аиша хочет проведать своего отца.
Она у него самая младшенькая,
Мой тесть уже совсем пожилой человек.
Что-то захотелось ему повидать внуков.
Да и у меня спросить кое-какого совета,
Как у доктора.
По приезде, я очень надеюсь, что получу ответ о тебя.
Мы будем отсутствовать недолго – недельку или чуть больше.
Просто мы едем на юг – в Бинт Джабейль.
Это не самое спокойное сейчас место,
Да и интернета там, боюсь, я не найду.
Хизбуллахи совсем превратили юг в военный лагерь.
Но делать нечего — тестю весьма тяжело приехать самому,
Так что придется поехать нам.
Но ты не волнуйся, для меня это вполне безопасно.
Я врач довольно известный в своей стране,
Так что за меня есть кому замолвить словечко и на юге.
Ну вот, Иаков, я заканчиваю свое письмо.
Не буду прощаться, пишу — до скорой встречи!
Вот думаю, как бы закончить это письмо?
Похоже, ничего лучше придумать не получится,
Чем просто написать тебе:
Брат, давай теперь, когда мы нашли друг друга
Не расставаться больше
Никогда-никогда-никогда.
С любовью,
Йакуб Аль-Файиз, Аиша,
Зайдулла и Асадулла.
Бейрут.
- июля 2006 года».
Прочитав дату письма, я обомлел.
Ведь назавтра… Завтра начнется война!!!
Дикими демонами набросились на меня её образы,
Понимание того, что произошло
И как взаимосвязано!
Вот, кем был тот человек, простирающий руки к небу,
Плачущий над телами убитых сыновей!
Как я не мог заметить этого рокового сходства!
Вот кем стал этот не желавший стать воином учитель,
Вот кого я встретил в секторе Газа!
Вот, кто уничтожил мою семью
И погиб от моей руки!
Словно зомби я поднялся из-за стола,
Нащупал ключи от автомобиля
И вышел на улицу.
Я не помню, как домчался до Капернаума,
И, собственно, почему поехал именно туда.
Бросив машину, я побрел в сторону Храма Апостолов, но…
Он исчез! Кругом было пустынно и тихо.
Опять, как в тот выходной день, проведенный с Соломоном,
Глаза заболели от цветных кругов.
Яркая вспышка разорвала мой мозг
И я рухнул наземь, теряя сознание.
Последнее, что я смог разглядеть
Сквозь мутный туман,
Это были какие-то странные люди,
Склонившиеся надо мной.
«Кто ты?» — спросил меня твердый и властный голос.
«Я – Азраил!» — успел прохрипеть я
И впал в беспамятство.
*******
Что ж, Иаков, сын Алфея,
Историей твоей говорит пророчество.
К чему ужасаться, что слышите вы о войнах и смятениях?
К чему изумляться, что восстает народ на народ
И царство на царство?
Что удивительного в том,
Что вершат предательство родители, братья и родственники?
В том, что будут они стремиться умертвить вас?
Не надейтесь на суму, она не оградит вас от дождя,
Так продайте ее и купите одежду!
Но придет землетрясение, и одежда не спасет вас,
Так продайте ее и купите меч!
Но придет наказание Божие и меч не спасет вас,
Что оставите тогда себе? Жизнь?
Но придет Азраил, и не укроете вы жизни от него.
Так отдайте ее в руки Господа Миров, не торгуя,
и сим победите…
-
- «Беседы с богом» Exclusive.kz 27.04.2021 Интервью с Дастаном Кадыржановым, где он рассказывает о своём романе и не только…
-
- Международное информационное агентство «KazInform» 04.10.2013 г. Презентация книги «История про хорошего и доброго парня» в Национальной библиотеке РК
-
- «Экспресс К». «Вечная история в необычном романе Дастана Кадыржанова» Интересные рассуждения, отзыв о книге Савельевой В.В. – известного филолога, специалиста по современной литературе Казахстана.
-
- Передача «Литературный клуб» Бекнура Кисикова в которой он рассказывает о романе «История про хорошего и доброго парня»
Вера Владимировна Савельева — русско-казахский филолог, критик, поэтесса. Доктор
филологических наук, сфера научных интересов: теория моделирования художественных
миров, художественная антропология, художественная гипнология и онейропоэтика,
русская литература и современная литература Казахстана. Автор 4-х монографий и около
200 публикаций.
Евангелие от Дастана эпохи глобализации
Давно прочла и взяла на вооружение один из афоризмов Георга Лихтенберга: «Из
общеизвестных книг следует читать лишь самые лучшие, а затем только такие, которые почти никто не знает, но авторы которых – люди с умом». Книгу Дастана Кадыржанова «История про Хорошего и Доброго Парня» (Роман-верлибр. В 2-х кн. М.: Художественная литература, 2013) можно отнести к малоизвестным прежде всего потому, что ее тираж – 1000 экземпляров. А в том, что автор – человек с умом, обширным кругозором и творческой фантазией, не усомнится ни один из читателей. Время, отведенное на ее чтение – это время, не потраченное зря.
Стиль, отвечающий теме
Объем романа-верлибра впечатляет. Роман состоит из двух книг, каждая более 600 страниц. Это, например, объем поэм Гомера или «Фауста», «Войны и мира» или «Человека без свойств» Роберта Музиля. Не буду гадать, почему автор избрал такую форму для своего романа. Это его воля. Лучше постараемся его понять. Верлибр – это форма свободного стиха, без рифм, разбитого на метрически несоразмерные строчки. Верлибр современен. Его легко читать. Это любимая форма многих сегодняшних поэтов и рэперов. Вот фрагмент монолога Голодного (он же Сатана), обращенного к Хорошему и Доброму Парню:
…Ты нормальных
Дисциплинированных бесов-то выгнать не в состоянии,
Изгоняешь всяких придурков, которые бравируют
Своим присутствием в человеке
В виде всякого бессистемного эпатажа.
Ты попробуй изгнать тщеславие, обжорство,
Жадность, пренебрежение к людям, необразованность,
Безудержное накопление капитала, иезуитство,
Юродствование во Христе, мнимую религиозность,
Тиранию, лицемерие, двойные стандарты.
Попробуй изгнать хамство, бескультурие,
Разделение по вере, фанатизм, эгоизм, равнодушие,
Наркоманию, проституцию – вот это я понимаю, вызов.
А Ты тут ходишь по Галилее и по Самарии
И разыгрываешь из себя чудотворца.

Повествование идет от первого лица, но кто этот рассказчик, станет ясно в конце романа. Он начинает историю очень буднично: «Это было давно… Жил там Человек, Хороший такой, Добрый». Однажды он шел по улице, а Бог проходил мимо и заговорил с ним: «Ну, и что Мне теперь со всем этим делать, / С тем, что Я понасоздавал тут в Израиле, да и во всем мире?». А Парень ему отвечает: «А чем Ты, Алахи, недоволен?»; «Ведь Ты же справедливость разве придумал?». И Бог соглашается:
Да, правда, не придумал справедливости Я.
Ведь должен быть кто-то богаче и талантливее,
Кто-то с медицинской страховкой, а кто-то нет.
Разве не от самого человека это зависит,
То, какое место он займет в мире, Мною созданном?
И Бог дает задание этому встречному: «Ты спроси людей – может, Я что-то не так придумал? / Может, плохо это – царства человеческие?». Это событие становится завязкой вечной истории:
Именно в этот миг мир изменился
Навсегда-навсегда-навсегда.
И Парень наш Хороший и Добрый изменился
Навсегда-навсегда-навсегда.
Рассказчик свидетель не только этого происшествия, но ему известны и будущие события (как лирическому герою в стихотворении Бориса Пастернака «Рождественская звезда»):
Потом, это только потом, будут разные люди,
Императоры, апостолы и Мартин Лютер.
Потом-потом будут мусульмане и из них выйдут другие мусульмане,
Потом-потом будет много пап, а Мама всегда будет одна.
Потом будет очень много разных событий!
Строчки верлибра объединены в пятистишия, и эта особенность сохраняется на протяжении всего романа. Весь текст разбит на сорок объемных глав (это пронумерованные стихи), многие из которых имеют заглавия. Редко какой из сорока стихов не имеет эпиграфов: одного, двух, даже трех. Источниками эпиграфов являются сакральные книги, притчи, цитаты из произведений философов, поэтов, писателей.
Полистилистика романа-верлибра проявляется на уровне лексики, где высокий стиль соседствует с просторечием. В романе много научных терминов, понятий, иноязычной лексики периода глобализации, например: ноутбук, ток-шоу, алгоритмы, тренд, фрактал, аттрактор, бизон Хиггса, флуктуация, перформанс, панк-музыка, комиксы, наклейки, мобильный телефон, «фундаментальный этический разлом», автопром, «эклектический креатив», бифуркация, искусственный интеллект, суперэтнос, климатические изменения. В тексте романа курсивом или прописной буквой выделяются ключевые фразы, слова-концепты, которые становятся проводниками авторской интенции, идейного пафоса: Путь, Тропинка, Дорога, Книга, Друг Возлюбленный, Хороший и Добрый Друг, Поступок, Душа, Вера, Честь, Страх, Сомнение и другие. Все эти маркеры являются результатом тщательной работы автора над текстом. Они должны подвигнуть читателя понять роман не только как увлекательное повествование, но как тайнопись.
Пространство, в котором происходят события, можно назвать миражным: оно то расширяется, то сжимается, а в художественном времени сосуществуют давнее или ближнее историческое прошлое и настоящее. Читатель должен ориентироваться в этом историческом миксе, где рядом с Римской империей присутствуют Соединенные Штаты, которые «объявят» римлян «своими прадедушками». В романе возможно все. Например, Леонардо может рассуждать о черном квадрате Малевича: «Что изображал Малевич в своем квадрате? / Может, это и не геометрическая фигура вовсе, / А отображение теории единого поля? / А может, просто Кааба?». Вся большая история человеческой цивилизации ассоциативно или событийно оживает в художественных реконструкциях и концептуально выстроена в произведении.
Для концепции книги очень важны глубинные религиозные и мифологические связи иудаизма, христианства, ислама. Это подчеркнуто соседством эпиграфов и равноправным присутствием на страницах книги имен: архангел Гавриил – он же Джабраил, Даджаль – он же Антихрист, Машиях – Мессия, Иисус – Иса, Иблис – Дьявол; понятий язычество и джахилия, грех и ширк.

В Стихе 30 описано то, что традиционно называют Преображением. В романе Учитель признается ученикам, что настало время «поговорить с небесами на одном языке». Он просит трех учеников пойти с ним. Рассказчик пишет: «Я поплелся с ними, / Сжимая в руке перья, папирус и пергамент. / Мне тоже было страшно. / Братья кутались в свои одежды, словно от холода». Кадыржанов создает свою фантастическую, но впечатляющую версию событий на горе Фавор. Автор подробно представляет удивительную встречу Учителя и Великого Араба – так назван пророк Мухаммад. Он является на рыжем коне, имя которому Бурак, с кривым аравийским мечом, и на щите его надпись: «Не меч всесилен, но Книга».
И, подойдя к Возлюбленному, обнял Его.
«Вот и встретились», – волнуясь, произнес Великий Араб.
«Как всегда», – улыбнулся Учитель.
«На этот раз не я несу тебе решение Аллаха Всевышнего.
В моей руке лишь часть его!»

Прощание пророка с Богочеловеком тоже трогательно – ведь он знает, какие страдания тому предстоят: «Великий Араб заплакал и, резко пришпорив Бурака, / Унесся во тьму, прошептав: «До встречи, ахи». (Ахи (араб.) – брат мой).
Одна из объемных глав (Стих 25) первой книги называется «Архитектор». Фома рассказывает историю своей мечты: построить храм, который не похож ни на один из существовавших. Но начиная с периода юности, все, признавая его талант, всегда сравнивают построенное им с другими, пусть даже великими, строениями. Жизнь его, как и жизнь Вечного жида, длится много столетий. В один из последних периодов он, отчаявшись, позволяет своей фантазии раскрепоститься и создает здание, в котором смешивает стили разных эпох и народов. И удивляется тому, что только тогда его провозглашают создателем нового, своего стиля.
Мне кажется, что история этого архитектора дает ключ к пониманию синкретизма и эклектики стиля романа-верлибра, который тоже являет собой смешение жанров, сюжетов, пафоса и сатиры, вечного и злободневного, поэзии и прозы. Визуальный ряд романа написан так, что читатель ощущает сильное влияние живописи, архитектуры и кинематографа. Картины и фрески Леонардо да Винчи, картины Питера Брейгеля, Босха, Гойи, Николая Ге и сцены распятия, созданные великими художниками, портреты Марии Магдалины, пейзажная живопись – все это влияет на описательный и нарративный строй романа.
О маргинальности романа-верлибра свидетельствует и многообразие жанровых форм, которые вместил авторский текст. Неомифологизм и десакрализация евангельских текстов соседствуют с такими жанрами, как: притча, диалог, авантюрная новелла, биография, жизнеописание, исповедь, поучение, молитва. В Стих 25 включены два увлекательных и поэтичных вставных текста, которые носят название «Первая легенда тюрков» и «Вторая легенда тюрков». Отдельная глава (Стих 28) называется «Притчи». В ней описаны несколько дней беседы Учителя с учениками. Свои мысли Учитель иллюстрирует притчами, а ученики (Иуда, Иоанн, Левий Матфей, Фома, Варфоломей, Филипп, Кифа, Фаддей, Иаков Алфеев, Иаков Заведеев, Андрей) спорят или соглашаются с ним, но всегда иллюстрируют свою точку зрения новыми притчами, которые они слышали. Это притчи о Ходже Насреддине, притчи буддийских монахов, суфийские притчи, японские, китайские, притчи инков.
Вся сложность формы романа-верлибра не исключает занимательности и напряженности повествования о событиях, которые по-своему реконструирует и переосмысляет автор.
Двенадцать спутников Учителя и Друга Возлюбленного
Читавшие роман, вероятно, сразу догадываются, что основой сюжета становится евангельская история о земной жизни Богочеловека, который представлен сначала как просто «Хороший и Добрый Парень», как называет его рассказчик. Двенадцать его спутников называют его Другом Возлюбленным, Учителем, а он считает их братьями, друзьями и только потом учениками. Кадыржанов подробно описывает внешность, характер, привычки, историю жизни каждого из двенадцати.
Эти двенадцать носят имена апостолов и значит ведут свою родословную от них, но это литературные, то есть вымышленные персонажи. Автор романа придумывает каждому длинную биографию, в которой персонаж становится свидетелем и участником многих событий, прежде чем попадет в круг избранных и призванных.
По моему мнению, эти большие вставные драматические и трагические новеллы-исповеди – самое интересное в творческом замысле автора. Каждый рассказывает о себе, дает оценки своим поступкам, негодует, раскаивается, жалеет об ошибках, оплакивает потери и смерти близких, а потом получает слова утешения и напутствия от Учителя и Друга.
Собрав всех вместе, беседуя на разные темы, Учитель в определенный момент неожиданно обращается к одному из сидящих с предложением рассказать о своей жизни. И первым рассказчиком становится Петр, носивший имя Шимеон, получивший прозвище Кифа, что на древнееврейском означает «камень». Тринадцатый стих романа называется «Камень» и начинается с обращения:
«Расскажи, Кифа, про Путь свой до дня сегодняшнего».
Тихо костер потрескивал в пустыне,
Тихо звенел монетами Иуда из Кириафа.
Тихо презирали нас звезды за то, что мы не на работе
И завтра на нее не пойдем – все уже решено.
И Кифа, «рыбак из простой семьи рыбака», начинает рассказывать свой путь с самого детства. Рассказ звучит очень актуально и для нашего времени: это история сильного, вспыльчивого молодого человека, которому надоело быть «лузером» и видеть унижение отца. Он пошел на службу к сильным, сумел организовать свой «бизнес», согласился, что все «решается с помощью денег. / Все двери откроются за злато, даже двери храма». Теперь Кифа раскаивается во многом, считает «талант – своим проклятием»: «Не был бы я организатором талантливым…, не попал бы я в этот круговорот порока».
Иной путь прошел Матфей. Его рассказу посвящен Стих 16, который носит название «Воскресшее сердце», а исповедь начинается словами: «Ты, Кифа, говорил, не играй с властью, с сильными мира, / А я ведь и был этой самой властью».
Стих 18 назван «Воин». В нем Шимеон Зелот рассказывает, как он не послушался и выбрал путь своего отца, тоже стал воином, убивал, стал террористом, был контужен. Он вспоминает, что видел в жизни то, что изображено на офортах Гойи, говорит, что война затягивает молодых своей мнимой простотой: «Там враг твой виден, известен – вот он перед тобой. / Критерии просты, как сборка и разборка «Калашникова». Шимеон признает вину, просит прощение, благодарит, что его приняли в круг братьев. 
Из этого краткого пересказа видно, как создает свои образы автор романа. Не так, как Томас Манн в эпопее «Иосиф и его братья». Казахскому романисту важны не только историческая достоверность и точность отдельных реалий быта, психологизм, драматизм. Он стремится достичь максимального обобщения и создает мегаобразы, каждый из которых строится на доминанте.
В Стихе 29 Филипп, в прошлом школьный учитель, выпускник Иерусалимского пединститута, свою исповедь начинает словами: «Я тот, кто наивно полагает, / Что он является творцом человеческих судеб, / Зодчим личностного фундамента, / Лишь на том основании, / Что он владеет временем детей». Он называет школу «первым тоталитаризмом», с которым дети встречаются в мире. Для Филиппа дети – это «симбиоз ангелов и маленьких чудовищ»:
Бог детей не создавал и не программировал в них Себе подобие,
Он создал людей сразу в виде двух особей,
Никогда не ведавших, что такое детство.
Этот школьный учитель рассказывает о своей работе в небольшом еврейском городе, в котором дети жителей враждуют с «пришлыми», «не нашими» – детьми-сиротами, отцы которых взяты в римскую армию. Старейшины города принимают мудрое решение: усыновить всех и тем самым искупить вину взрослых и выполнить нравственный долг перед своими и не своими.
Далее Филипп рассказывает о реформах образования, которые развалили школу. Учителя стали уходить в бизнес, оставлять школу, а бывший директор говорит, что для себя он остановил время и живет в «остановившемся времени». Конечно, в том, что и как рассказывает Филипп о школе и «римских реформах», читатель узнает ситуации и реформы дня сегодняшнего. Кадыржанову и здесь удается, соблюдая историческую дистанцию и повествуя о периоде римской империи, передавать атмосферу современной эпохи глобализации.
Стих 31 носит название «Царь». В нем будущий апостол Нафанаил рассказывает свою историю – историю последнего фараона Египта. Он прожил три жизни. Первая – это жизнь 14-летнего фараона, который отказался превратиться в изгнанника, царя без царства, а значит выбравшего смерть. Своему воспитателю он говорит:
Я же сжимаю за пазухой и сберегаю
Нежного и ранимого сокола, олицетворяющего собой
Мой красивый и гордый народ,
Который, кроме меня, ни в ком не увидит указа судьбы о будущем.
И если я буду словно заяц спасать свою шкуру,
То просто утеряю это право – беречь дерзкую птицу.
Принять окончательное решение ему помогает ангел, который показывает ему монархов разных времен и народов: последнего джунгарского царевича, французского короля или сына Ивана Грозного, Бонапарта и других, – которые тоже оказывались в ситуации выбора. И последний фараон принимает решение, зная, что смерть его на острие меча Октавиана, а «бессмертие в сердцах этих простых людей». Он понимает, что «нельзя отказать в мечте своему народу». Но умирающему от раны не дано пройти путь, который описан в Египетской Книге Мертвых. Автор романа описывает впечатляющую картину, когда навстречу спускающейся в мир мертвых душе выходят четыре огромных пса с человеческими глазами. Они говорят с ней, приказывают вернуться назад и называют новое имя бывшему фараону и действительную дату его нескорой смерти.
Далее Нафанаил описывает 30 лет своих странствий по землям разных народов и свое пребывание на планете Нибиру, где наблюдает разрушение Золотого века переселившихся на планету людей другими переселенцами, у которых татуировка «глаз на ладони». Так представлены в романе теории масонского заговора. Страннику удается спастись, вернуться на Землю и тут встретить Хорошего и Доброго Парня, который обещает ему «Дом Светлый и Вечный». Как и у других рассказчиков Встреча с Учителем происходит в момент, когда все варианты возможных поисков истины, счастья, цели исчерпаны и человек находится в ситуации отчаяния.
Стих 33 назван «Великая Всемирная Революция». В нем будущий апостол Андрей рассказывает «свой Путь до дня сегодняшнего». Его, талантливого программиста и хакера, друг приглашает в США участвовать в необычном проекте по моделированию и прогнозу всемирной социальной революции. В проекте участвуют ученые, специализирующиеся в разных областях науки, приехавшие из разных стран. Эта глава романа написана как технологический и политический триллер с трагическим финалом. Сюжет этой истории в наибольшей мере приближен к современности и насыщен именами историков, философов, политиков (Маркс, Ленин, Гитлер, Сталин, Де Голль, Че Гевара, Горбачев, Фрейд, Юнг, Тойнби, Фукуяма, Шехтер, Маслоу, Лев Гумилев).
В Стихе 34 «Ангел» Фаддей рассказывает свою фантастическую историю, в которую не может поверить никто. И только встретившись взглядом с Учителем, Фаддей понимает, что тот все знал о нем и раньше. Нынешний Фаддей был бессмертным ангелом, которому на небесном совете было поручено помочь Учителю собрать двенадцать учеников. Он признается, что был рядом с каждым в момент выбора и отчаяния. Но, исполнив поручение, ангел делает свой неожиданный выбор: просит сделать его человеком, то есть лишить бессмертия и дать душу. Все это ради того, чтобы войти в число двенадцати. Приведу разговор ангела с Архангелом:
«И как ты представляешь, чтобы я это организовал?» –
«Очень просто, брат, завтра умрет Фаддей –
Любимый брат моего лучшего друга,
Иакова Алфеева.
Его не спасти – я предпринял все что мог.
Я просто переселюсь в его тело,
И все. Только знаешь?
У меня же появится душа!
Я пришел к Фаддею и спросил его согласия,
И он сделал свой выбор.
Конечно, не читавших этой книги, интересует, что же расскажет о себе Иуда иш-Крайот (так он именуется в романе). Стих 20 называется «Лицедеи, они и нищие духом». Рассказ о своем пути, Иуда начинает с рассуждения о том, какую власть над душами человеческими и над историей имеют политики. Он это рано понял: «Я – политтехнолог, социоархитектор, пиарщик, / Мастер психологии масс, think tank, коммуникатор, / Мозговой трест любой политической победы». Его карьера началась с первого рекламного ролика. Он знает, как «убедить человека купить какой-нибудь ширпотреб», понимает силу «профессиональной пропаганды», манипуляции и провокационной рекламы. Одна из его успешных кампаний состояла в том, что он через юристов цинично убедил народ, что власть императоров гораздо гуманнее «патриархальной Республики». Иуда честно признается, как, будучи втянут в политические игры, выдал Иоанна Крестителя. Таланты Иуды были использованы, а он получил за предательство только похвалу и «пару сигарет». Разочарованный Иуда называет себя нищим духом, но Учитель объясняет ему разницу между нищими духом, которые узреют Царствие Небесное, и тем, что «нельзя подменять нищету духа бездуховностью». Нищие духом ничего не имеют, остальные же должны делать выбор, решаться на поступок. Позже окажется, что раскаяние Иуды в первом предательстве не спасает его от второго предательства.

Оригинальность и сложность творческого замысла Кадыржанова состоит в том, что его апостолы – это люди исключительные не только с момента вхождения в круг избранных, но и в предшествующий период жизни. Они вбирают в себя все лучшие и худшие качества людей, раскаиваются в совершенных ошибках и делают новый выбор. Каждый из них в отдельности соединяет в себе опыт прошедшего, настоящего и будущего, а все вместе они суммируют тот путь, который пройден цивилизацией к моменту встречи с Иисусом и до настоящего времени. Они не случайно избраны. Даже у Иуды Искариота есть своя миссия и свой шанс на новый Путь.
Евангелие от Дастана эпохи глобализации
Мировую литературу, живопись, скульптуру, кино постоянно пополняют произведения, использующие евангельский и библейские сюжеты. Французский писатель Франсуа Мориак в предисловии к своей книге «Жизнь Иисуса» называет ее «дерзновенной». Книгу португальца Жозе Сарамаго «Евангелие от Иисуса» каноническая церковь считает «скандальной». Споры вызывают евангельские главы романа «Мастер и Маргарита». Роман Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса» также, как и роман Дмитрия Мережковского «Иисус неизвестный», считают классикой. Немецкий писатель Фридрих Дюрренматт в рассказе «Пилат» исследует внутренний мир этого евангельского персонажа.
Кадыржанов представил свое понимание евангельского сюжета, но увидел его через призму современности. В романе-верлибре нет исторической реконструкции событий. Его персонажи – это вечные типы и одновременно люди нашего времени.
Одна из важных тем романа-верлибра – это тема Вечного Круга; повторяемости добра и зла; за ошибками следуют прозрения; преступление влечет за собой наказание; мыслям о смерти сопутствует вера в возможность бессмертия; война, будь она на земле или на небесах, должна когда-нибудь остановиться. Но каждого человека судят «по ключевому выбору», который он «обязательно сделает в жизни».
Стихи 35 и 36 второго тома посвящены событиям страстной недели, когда Учитель и Иуда делают свой выбор. В молитве в Гефсиманском саду Учитель, Друг Возлюбленный предсказывает будущее и просит отца остановить Круги Времени. Он видит, как приходят новые тираны, видит, как «слепота усиливается», видит «Иерушалаим земной разделенный»; лжепророков и новых Цезарей на монетах.
Абба! Вижу юношу в будущем, страдающим
Так же, как я, это я?
Вижу парней Хороших и Добрых,
Погибающих, но не изменяющих себе,
Это ты?
Вижу распинающих их, смеющихся и праздных после казни.
Это мы?
Вижу тело, терзаемое ястребами,
которые птицами не рождены.
Вижу страны, несущие свои троны
И строящие новый Вавилон.

В конце молитвы он обращается с одной просьбой и просит за своих братьев-учеников: «Про братьев прошу у Тебя. / Мальчики сделают все сами, сами найдут Тебя на Пути. / Просто – / Не дай забыть их имена».
Сцены суда и казни написаны в виде палимпсеста – то есть как современный текст на сакральном тексте: имена и события остаются, но все действие обрастает деталями нашего времени, в которых преобладают сатира и гротеск. Появляется желтая пресса, имиджмейкеры, Дисмас и Гестас, адвокаты-тезки двух разбойников. Суд и казнь начинают напоминать хорошо подготовленное и циничное шоу, а толпа ждет зрелища.
Зевая и веселясь, они переминались с ноги на ногу,
Ожидая праздничного шоу.
Ведь назавтра был Песах,
А что еще есть из лучших развлечений,
Нежели казнь какого-нибудь разбойника к Песаху?
Кто собрался в этот день на площади,
Кто прильнул к экранам телевизоров,
Досадуя на множество рекламы в паузах, –
Все ждали завершения этой интересной истории,
Которую, скорее всего, придумали иерусалимские продюсеры.

Все пытаются понять, кто этот преступник: «пророк непонятный, экстрасенс или коммунист». «Все суетятся, но достают телефоны / И успевают все запечатлеть на них, чтобы потом / Образцово все выложить в глобальных сетях». Персонажи из толпы обрисованы так, что они напоминают химерические образы Иеронима Босха: «из толпы вышел человек с рыбьим лицом и закричал»; «многое решат люди с лисьими лицами»; «они были похожи на разгневанных верблюдов».
Предательство Иуды уходит в тень, на первый план выходит лицемерие Каиафы, соглашательство Пилата, который хочет поступить «по-человечески», но «система заставляет его поступать» как человека системы. Пилат – «просвещенный колонизатор», который умеет угодить всем, он проповедует «толерантность культур», защищает стабильность, но после разговора с приговоренным он колеблется:
Как же будет мне истинно поступить?
Как правильно – я знаю,
Как выгодно – тоже знаю,
Как жестоко – тоже могу себе вообразить.
Но как будет выглядеть поступок
Истинного величия?
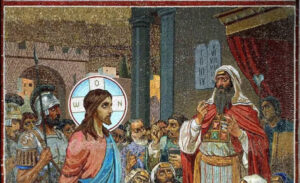
Сцена казни описана кинематографично, и в ней драматизм сочетается с сатирой и злой иронией. Карикатурно описано поведение адвокатов, которые дирижируют клакерами; Каифы, который «ободряюще» размахивает руками перед «хором кричащей элиты»; умного первосвященника Анны, который говорит Пилату: «Нам нужно, чтобы система в лице тебя / Приняла важное и нужное решение». Но тогда: «Ты запираешь над собой Небеса / И умываешь руки».
В Стихе 38 «Альфа и омега» описаны снятие с креста, самоубийство Иуды, исчезновение тела, сомнения учеников, явление им Учителя Возлюбленного и благословение от Архангела Джабраила, носителя Духа Святого.
Посланник Небесный словно глядел на каждого из нас
В отдельности жестким и волевым взором.
Потом он стал медленно поднимать руки,
Сжатые в кулаки,
Пока не принял очертания Креста Тенгри.
В следующее мгновение он опустил голову
И, обратив к нам свой ужасный лик,
С силой дунул на нас невидимым пламенем,
Которое ворвалось в наши легкие,
Наши сердца, души, жилы и наполненные кровью вены.
Автору романа удается передать мгновения озарения и откровения. В предпоследнем стихе «Поэт» (так называет Иоанна Учитель в сцене богоявления) Иоанн описывает свои сны, разговоры с Архангелом о важности свободы Выбора и Поступка, об Апокалипсисе, Антихристе и Великом Суде. И только потом, получив Откровение, Иоанн выходит из темной кельи на улицы города, видит движение людей, вспоминает своих братьев, чувствует одиночество. Но вдруг замечает группу мальчишек со школьным учителем. Один из школьников подбежал и поднял с земли оброненное Иоанном перо, вернул и помчался обратно: «Двенадцать – сосчитал я мальчишек и понял, / Что начался новый Круг». Эта сценка заставляет вспомнить светлый финал романа Федора Достоевского «Братья Карамазовы»: вечные двенадцать начинают свой жизненный Путь поисков истины во имя победы добра и справедливости.
В кульминационных сценах и развязке читателям, наконец, становится ясно, кто является главным очевидцем-рассказчиком событий прошлого и одновременно повествователем в романе-верлибре. Это Иоанн, к которому Учитель обращается с креста с просьбой беречь его мать и далее говорит: «Тебе отдаю власть Слова горящего. – / Зажги его, если ему суждено гореть».

Напомним, что именно в Евангелии от Иоанна (последнем из четырех канонических текстов) провозглашается важность и созидательная роль слова: «В начале было слово». Позиция евангелиста близка позиции автора, вот почему в романе происходит частичное наложение вечного образа и образа автора.
Заключительный стих разводит образы Автора и Иоанна. Автор рассказывает о трагической кончине каждого из верных учеников: Кифы распятого Нероном; казни Андрея; Левии Матфее, убитом в Эфиопии; как был обезглавлен Иаков Заведеев; смерти Варфоломея, с которого заживо содрали кожу; казни Иакова Алфеева; смерти Фаддея, бывшего ангела; замученного воина Шимеона Кананита; смерти архитектора Фомы, изрубленного мечами; побитого камнями Юного Матфия, который был принят в семью апостолов после самоубийства Иуды. Только поэт Иоанн избежал мученической смерти: «Как попросил Друг Возлюбленный, / Он заботился о Маме его. / И однажды к нему пришло Слово, / О котором уже рассказано».
Историография апостолов, действительно, утверждает, что только Иоанн умер своей смертью. Кадыржанов сохраняет этот факт, но и художественно переосмысляет. Ведь Иоанн не просто летописец, но и хранитель Слова Учителя. Именно ему, владеющему Словом, Архангел открывает сцены Конца света и Суда. Бессмертие Слова дает бессмертие и тому, кто им владеет. Поэтому Иоанн, как путешественник во времени, оказывается свидетелем событий разных эпох.
В конце романа образная параллель расширяется. Автор, перечисляя все главные изображенные события, неожиданно отвечает на вопрос читателя: «Кто ты, который все знает до и после всего?». Его ответ: «Читатель, разве ты еще не догадался? / Я – это Ты!». Последняя фраза романа актуализирует интерактивную позицию читателя, тем самым вовлекая его в круг не только свидетелей, но и учеников. Так в структуре романа реализована триада Иоанн – Автор – Читатель.
Интеллектуальный, неомифологический роман-верлибр Дастана Кадыржанова создан на стыке разных культурных традиций и насыщен животрепещущими проблемами эпохи глобализации. По своему стилю это новый поэтический эпос, в который включены древние и новые жанровые формы. Чтение такого текста обогащает читателя, просвещая его разум и просветляя его понимание исторического прошлого и современного мира.
(пост в Facebook без купюр, в полной версии автора)
Привет всем! Несмотря на то, что все увлечены «захватывающими сюжетами» нашей внутренней политики, предлагаю отвлечься на культурологические темы.
Гульмира Мусина написала впечатляющий отзыв на мой роман-верлибр «История про Хорошего и Доброго Парня». Конечно, сегодня в тренде обсуждений наш с Адиком роман «Сердце Родины» и сейчас я погружён в свой новый роман, но «История… продолжает быть или уже останется навсегда моим magnus opus.
В тексте самого отзыва мы с Гульмирой так и не смогли справиться с тем, чтобы вернуть кнопку «Поделиться»
(ну что поделаешь, я еще видел пейджеры!), поэтому вот ссылка на него: https://www.facebook.com/permalink.php? story_fbid=2699824726729680&id=100001065365486
В своей публикации, я решил начать отвечать на вопросы, поставленные Гульмирой. И превратить эти ответы в некую неспешную беседу. Вопросы интересны сами по себе — о некоторых дискурсах, я даже не задумывался. Но попробую отвечать. Постов, видимо, будет несколько, так что велькоммен к беседам на литературные темы.
Искусство — это то, что вечно. Хорошие произведения живут вечно, а неважные исчезают в этой вечности навсегда. Так что в этом вопросе, торопиться некуда.
Говоря об искусстве, у нас всегда есть возможность пощупать эту вечность лично. Либо вечность славы, либо вечность забвения. Это уж как кому написано на небесах.
Приступаю. Отвечать буду не всегда в том порядке, в котором они задавались Гульмирой, причины понятны. Будут лонгриды, так что торопящиеся жить могут игнорировать нашу беседу. Торопящиеся познать — добро пожаловать!
- ХОТЕЛ БЫ АВТОР ПЕРЕВЕСТИ КНИГУ НА КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК? И СЧИТАЕТ ЛИ ЕЁ
ПЕРЕВОДИМОЙ?
В настоящий момент некоторые главы книги переводятся на английский язык,
спасибо за это Shara Janseitova Shelley Fairweather-Vega.
Были выбраны несколько глав, которые могли послужить тому, чтобы привлечь интерес зарубежных издателей. Так случилось (честно говоря, не помню как), в число этих глав попал Стих 39 «Поэт».
Это одна из самых сложных глав в плане языка. Достаточно сказать, что она написана на основе «Откровения Иоанна Богослова» (известного как «Апокалипсис»), мусульманских признаков Судного дня и других апокалиптических преданиях человечества.
В ней настолько много символизма, игры слов и символов, что для меня этот Стих казался почти непереводимым на другие языки. Однако Шелли блестяще справилась с этой задачей. Я владею английским, конечно не в такой мере, чтобы улавливать все шекспировские нюансы и самому переводить, но я в состоянии оценить смысловую
точность и то, как произведение звучит на английском, «услышать» мастерство переводчика.
Перевод на казахский язык «Истории…» — это не просто моё желание, это мечта, чтобы мой народ прочитал эту книгу на родном языке. Нескромно полагаю, что для многих она послужит в качестве серьезного рубежа духовно-познавательного роста и, между прочим, принесет с собой огромный багаж исторических знаний.
После перевода на английский самых сложных глав, я уже не боюсь того, что текст может оказаться непереводимым на другие языки. Тем более, хочу я этого или нет, хотя я и писал по русски, казахское мышление никуда не исчезает. Оно настолько прочно сидит внутри, что безусловно не может не отражаться на стилистике текста. Об этом говорят «тюркские легенды» из Стиха 25 «Архитектор» да и многое другое.
Это должно помочь переводчику на казахский. Тем более, что я буду способен оценить его мастерство.
Вообще роман — очень восточное произведение, потому что в нем использованы неевропейские правила рифмы, восточная ритмика танца или терме, ритмика поэзии Священных книг. Верлибр моего произведения, мне кажется, очень восточен. То ли из-за моего образования. то ли от происхождения, а скорее от того и другого.
Вопрос, получается только в одном — чтобы такой высокопрофессиональный переводчик на казахский существовал и при этом, его бы заинтересовало само содержание книги. Надеюсь, эти условия однажды сложатся в благоприятное созвездие.
ВТОРОЙ ВОПРОС ГУЛЬМИРЫ я выбрал короткий, чтобы уж совсем не увлекаться
форматом лонгрида.
- ЭТО ПРАВДА, ЧТО ГРУЗИЯ ЛИДЕР СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ ИЛИ ЭТО АЛЛЮЗИЯ?
(Стих 20)
Насколько я знаю грузин и грузинскую культуру — конечно же нет. По крайней мере грузины уж точно не лидеры в этом аспекте. Я рад, что эта фраза «выстрелила» и не осталась без внимания.
Почему же она возникла ?
Первое объяснение это то, что глава посвящена политическим пропагандистам и той грязи, какой обычно наполнен политпроп. Стих 20, «Лицедеи, ОНИ и нищие духом» — это история катарсиса Иуды, который оказался в моих фантазиях вначале рекламщиком, а потом политтехнологом высочайшего уровня. Я знаю тему, о которой
пишу, поскольку сам в своей жизни прошел примерно те же самые стадии, что прошел мой персонаж.
По-моему, мне удалось передать все тонкости этой профессии — от технологий работы спецслужб до личного выбора человека, когда речь в сделке идет о выборе на высочайшем ценностном уровне.
В ряду этих специфических черт профессии и задумана эта абсурдная фраза, которая сходу демонстрирует подходы в пропаганде. Когда глава писалась, по-моему, был конфликт России и Грузии, и на Грузию лились потоки беспринципного политпропа, абсурдность которого просто зашкаливала. Как профессионал, я не мог не видеть этой чрезвычайно эффективной технологии «поражать аудиторию силой абсурдного заявления» и попытался передать его в этой фразе. Обвини целую нацию в том, чем она не является, а уж это потом её проблемы доказывать, кто верблюд, а кто нет.
Вот такими получились первые ответы на Ваши вопросы. Думаю, продолжим дальше!
- ПОЧЕМУ ДЛЯ СЮЖЕТА РОМАНА АВТОР ВЫБРАЛ ИСТОРИЮ ИИСУСА И 12
АПОСТОЛОВ?
Часть ответа на этот вопрос есть в «Предисловии автора» к роману. Начну с того, что в нем говорится о том, что я посвятил роман моему поколению, поколению тех, кто пережил эпохальные изменения, на чью долю и выпала необходимость находить себя не только в политической системе или в экономической иерархии, но еще и в
поиске нового духовного стержня. В поиске новой нравственной точки опоры, которая — до сих пор неизвестно — состоит ли из восстановления прошлого, из смирения с настоящим или же связана с поиском чего-то нового, доселе еще миру неведанного.
К сожалению, этому-то духовному поиску посвящено не так много литературы, мало исследований, художественных произведений. В основном все предпочитают описывать то, как люди вписываются в новые социальные правила, нежели то, какой внутренний ценностный диалог они ведут с собой.
Процитирую это место из Предисловия:
«В каждой религии были первые сподвижники – первые христиане, первые буддисты, первые мусульмане -мухаджиры и ансары . Они были воистину первыми. Теми, кому предстояло «с нуля» поверить в Новое Слово Господне. Теми, кто изначально был лишен комфорта просто следовать устоявшейся системе ценностей, не задумываясь о том, что жизнь готовит им совершенно иную и замечательную судьбу.
Представьте – и мухаджиры и апостолы были теми людьми, которые вдруг поверили в новое Послание миру, смогли преодолеть в себе сомнения, страх, разночтения, традиции прошлого, отвергнуть все то, что было прежде до них, веками правило обществом и самое главное – составляло традиции их отцов, которые им вменялось в
обязанность хранить незыблемыми.
Но они изменились. Они поверили в Христа. Они поверили Мухаммаду. Поверили Шакьямуни-Будде.
Они стали первыми, кто поверил.
И я понял. Мы такие же».
Да-да.. В том, что мое поколение пережило тотальную смену общественных отношений, смену формации, в том, что мы стоим на сломе нравственного изменения всего мира, не только «одной шестой суши», я и увидел наше сходство с первыми подвижниками.
Не просто суметь отказаться от старой системы взглядов, которая представляла собой развитую и цельную научно-мировоззренческую систему, а суметь подвергнуть ее переосмыслению, найти новое, сохранив ценное, понять это новое и суметь сформулировать. В этом состоит исторический вызов поколения.
Сходством во многом является и то, что настоящий духовный надрыв и катарсис присущи далеко не всем, просто по праву поколения. Они присущи тем немногим, которые смогли сделать этот поиск своим жизненным кредо, не отступая от него, каким бы не был страх сомнений.
Вообще, идея «Сомнения, как начала Веры» четко сформулирована в романе, не помню в каком Стихе. Она проходит через всю его ткань, как символ экзистенциализма, постоянного выбора человека не только во взглядах, но и в
поступках. В том числе на грани жизни и смерти.
Конечно между нами есть существенные отличия.
Апостолы и мухаджиры дошли таки до нового учения, мы же до сих пор находимся на ценностном перепутье.
Другое отличие очень важно. Ведь речь идет о том, что первые сподвижники имели возможность лично знать Великих Пророков. Мы же знаем их лишь из легенд, книг и преданий. Но… мне показалось, что для того, чтобы ощутить их прижизненную харизму необязательно иметь машину времени. Достаточно уйти в глубины своего
сознания, подсознания, эмоций и воображения, даже в сны, чтобы не только повидаться с ними, но и … пообщаться. Это-то я и попытался сделать в своей книге. Лично мне это удалось, я очень надеюсь, что удастся и тем, кто будет ее читать.
Почему именно Иисус, при том, что я считаю себя мусульманином? Здесь есть несколько пластов. У вас, надеюсь еще есть время? Тогда продолжаю.
Есть чисто техническая, точнее исполнительская сторона вопроса. Первых мухаджиров было очень много — больше 80-ти тех, кто бежал в Эфиопию и около сотни тех, кто присоединился к хиджре Пророка Мухаммада. Более того, истории первых неофитов очень подробно описаны в преданиях — от Хаджиджи и Вараки до тех, кто сопровождал Пророка до самой смерти.
Изучая же евангельские сюжеты и предания, я увидел, что деяния великих апостолов довольно подробно описаны в Новом Завете, а вот о том, кем они были до присоединения к миссии Христа, информации весьма немного. Тем более число 12 мне показалось вполне реализуемым. Признаюсь, я и не думал, что эти 12 историй превратятся в целый двухтомник из более тысячи страниц.
Неизвестность судеб христианских апостолов и открыла ту самую необходимую мне свободу воображения, погрузившись в которую я провел три года, пока писалась эта книга. Это и предоставило возможность создать историческую фантасмагорию, смешав исторические периоды, географию, все доступные мне знания о науке и
религии.
Однако это не просто физическое смешение времен. Это отдельное представление о времени и истории, которого мы коснемся позднее, если не наскучат беседы об искусстве ).
ЕСТЬ ЕЩЕ ОДИН ПЛАСТ вопроса о выборе евангельского сюжета, который
сформулировался задолго до появления идеи романа. В беседах с моим другом, художником и соратником Қанат Ибрагимов, мы часто осуждали феномен, который условно можно назвать «жанрово-сюжетной резервацией», в
которую нас определили как Западное общество, так и бывшие «старшие товарищи» по СССРу.
Суть этого феномена заключается в том, что казахам, дескать, нечего пытаться творить в мировых жанрах, касаться мировых сюжетов. Это якобы им не присуще. Они искренне удивляются — какой импрессионизм? Какой классицизм? Куда вы лезете в нашу культурную сокровищницу? Ваш удел — не выходить за рамки
фольклористики, пресловутой «самобытности». Причем подавать ее в ракурсе
«европейской комплиментарности», которая заключается в следующей культурологической логике — вы снимаете всякие жесткие артхаузы и мрачные историзмы, в которых видно, какими вы были низкоразвитыми и подверженными первобытным страстям. Как у вас все было ужасно, пока свет европейской
цивилизации не зажег вам смыслы существования.
И это не плод нашей с Канатом обиженной фантазии, это то, с чем я сталкивался постоянно хотя бы на этапе издания этого романа. Что? Казахи о Христе? Вы чего там у себя с ума посходили? Что вы о себе возомнили? Пишите про ваше — кони, бараны, кочевники в шапках у-лю-лю-лю!
Это еще и тема практически всех европейских кинофестивалей, которые с удовольствием наградят какого-нибудь «Безумного чабана», нежели «Беседы Ермека и Леонардо да Винчи». Видите ли есть вещи, которые мы не в состоянии осмыслить своим кочевническо-постсоветским умишком. А еще и пытаемся в них творить. И,
казахи, давайте вы там не выходите.. из выделенной вам… жанрово-культурной… резервации.
К слову, это вряд ли сильно касается романа на стадии замысла. Это то, что сопровождало его на протяжении всей истории создания. От первой рукописи до презентаций.
На замысел это вряд ли повлияло, потому что я не чувствовал никаких рамок для себя. Надо было бы написать через призму истории сикхов, то если бы это ложилось на замысел, я бы выучил пенджаби и наизусть цитировал бы их священную книгу Ади Грантх. (Кстати, в романе есть и сикхи и цитаты из Ади Грантх ). Мне это
позволяет сделать не только образование, но и многие годы самообразования, поиска и бесед с небесами.
Дать себе максимальную свободу в выборе жанра и сюжета, не боясь ни его древности, ни того, что ныряешь в один из самых распространенных сюжетов мира. Дать себе свободу выйти за рамки человеческой раздробленности, прийти к целостности только для того, чтобы побеседовать с Богом и Великими Пророками.
Надо посметь, а потом не оглядываться. Вот этими вещами наверное я и руководствовался при выборе персонажей.
Пора. Пора вернуться к беседам о литературе и искусстве. Темой продолжает быть
наша переписка с Gulmira Mussina вокруг моей книги «История про Хорошего и Доброго парня».
Меня уже подозревают в излишнем самопиаре, и я сразу отвергну такие предположения. Книга написана давно, издана давно, так что считать ее «горячей актуальной злобой дня» нет никакого смысла. Просто мне понравились вопросы Гульмиры, из-за которых мы можем затронуть очень интересные пласты нашей
истории и культуры. Эти вопросы здесь:
https://www.facebook.com/kadyrzanov/posts/2704408252916191
Напомню — отвечаю я не в том, порядке, в котором они были заданы. Скорее по мере того, как мой ответ будет тщательно обдуман. Сегодня речь пойдет об очень сложных темах, которые подняла Гульмира, поэтому их обдумывание и заняло столько много времени, что перерыв в нашем общении оказался слишком большим. Однако беседы о вечном не требуют торопливости.
Итак, продолжим. Объединю два вопроса в один, потому что ответы на них где-то рядом друг с другом.
- ПОЧЕМУ ТЮРКСКИЕ ЛЕГЕНДЫ ВКЛЮЧЕНЫ В СТИХ О ФОМЕ? МОЖНО ЛИ
СКАЗАТЬ, ЧТО В РОМАНЕ ПРИСУТСТВУЕТ ИДЕЯ РЕСТАВРАЦИИ
ТЕНГРИАНСТВА?
Многие мои читатели выделяют 25-й стих «Архитектор» про апостола Фому, как один из ключевых разделов романа. Действительно, по охвату событий этот Стих представляет собой целый «роман в романе». Как по сложности сюжета, так и по сложности идей, которые там обсуждаются.
По существующим преданиям, в том числе и согласно таким апокрифическим источникам, как «Деяния Фомы» и «Евангелие от Фомы», апостолу Фоме Иуде Дидиму достался для проповедей таинственный и неизведанный Восток. Он прошел по Великому шелковому пути, побывал в Индии (его мощи хранились в Индии до IV в. н.э.и лишь тогда были перевезены в Италию, в Ортону) и в Китае. И я позволил себе сделать предположение, что он побывал и в Великой Степи.
По преданию Апостол Фома был казнен неким восточным деспотом Маздаем, а то, что он мог быть архитектором, позволил мне предположить сюжет, связанный с неким индийским царем Гундофаром. В нем Фома обещает царю построить самый великий храм, а в итоге раздает все деньги, выделенные на строительство, бедным,
причем от лица самого царя. В результате храм так и не был построен, но брат царя, побывав на том свете, увидел, что Фома не соврал – на небесах из добрых дел, сделанных от имени Гундофара, красовался огромный и прекрасный храм.
Кстати, Этим Гундофаром вполне мог являться реальный исторический персонаж царь Гондофар I, правитель индо-парфянского царства, расположенного вЦентральной Азии.
Так авантюрный сюжет лег в основу того, что мой Фома оказался полноценным, а не предполагаемым архитектором, который находится в творческом поиске. Кто не читал, позволю себе небольшой спойлер. Суть творческого поиска Фомы отталкивалась от его имени. Фома на древнееврейском означает «близнец», «похожий». Дидим то же самое по-гречески. В Германии его называют Гамлет, что… тоже переводится как «близнец», «похожий». Фомой двигала самая главная цель любого творца – создать нечто неповторимое, не похожее ни на одно произведение предыдущих художников, в данном случае зодчих.
Образ моего Фомы очень эклектичен, потому что в ранний период я сделал его одним и тем же лицом, что и Аполлодор Дамасский – тот, который построил Римский Пантеон. Дело в том, что Аполлодор написал в свое время научный труд «Осадные механизмы», что послужило основой для меня написать сюжет о встрече Фомы и
Леонардо да Винчи, также увлекавшимся строительством удивительных механизмов, знаменитых invenciones.
Об этом сюжете нужно сказать несколько слов отдельно. Диалог Томмазо-Фомы и Великого Леонардо построен целиком на реальных дневниках да Винчи, его записках и мыслях, которые я изучал долго и скрупулезно. По сути, все его реплики, когда они ведут диалог с Фомой, не придуманы мной, лишь поданы в более диалоговой форме.
Особенно важным для меня было понимание Леонардо живописи и искусства как науки, науки познания окружающего мира.
Но, конечно, я добавил много своих смыслов. Например, диалог о том, как изображать Бога, можно ли и почему это часто лишено всякого смысла. Два художника пытаются осмыслить догматы некоторых верований не с точки зрения их аксиоматичности, а именно с точки зрения пути познания Бога.
Все это происходит в Медиолануме, так назывался в Древнем Риме Милан, где великий Мастер пишет свою знаменитую фреску «Тайная вечеря». Как раз именно процесс ее написания и служит поводом для диалога Художника и будущего Апостола.
Немногие обращают внимание на одну из самых главных черт этой фрески, которая, по сути своей, является некой ересью среди традиционной иконописи и живописи на религиозные темы. На фреске вообще нет традиционных надписей вроде «Б-г», ИХВХ или «Саваоф». Нет нимбов и особых свечений, что по мнению Леонардо
примитивизирует сюжет, обозначая в нем прямые сигналы куда и кому поклоняться. Уже после расставания с Леонардо Фома узнает, что же на самом деле изображено на новой таинственной картине да Винчи (версия моего художественного вымысла) – женщина или…?
Просьба не забывать, что одной из жанровых характеристик «Истории…» является историческая фантасмагория, которая и позволила мне смешать исторические периоды вместе. У Гульмиры дальше есть вопрос о концепции времени в романе. На него не так просто ответить, поэтому о том, какой получилась и задумывалась именно
историческая фантасмагория – в следующем отдельном посту.
В итоге, поиски Томмазо-Фомы- Аполлодора, проведя его через все цивилизации Ойкумены, леса Германии, привела его к народу, который по какой-то причине не знал архитектуры. Там гипотетически и мог родиться тот самый неповторимый храм, о создании которого мечтал Фома. Он полагал, что неосведомленность тюрков в
зодчестве создаст необходимые условия для его строительства.
Однако по прибытии к гуннам (они же в книге и тюрки) к Мади-кагану, он понимает, что отнюдь не неведение стало причиной того, что у тюрок нет архитектуры, а нечто другое, что ему пришлось постичь, погрузившись в быт и философию кочевой империи. Отсюда и инкрустация тюркских легенд и сказаний в сюжет.
Имя Мади-кагана – это художественное авторское решение. Скорее всего, транскрипция имени гуннского владыки Модэ-шаньюя на тюркский лад звучало по- другому. Однако мне важнее было всегда подчеркивать общность и цельность взглядов всего человечества. По этой причине и была выбрана эта версия, согласно
которой Мади – это тюркизированное имя Махди – великого воина, которому суждено, согласно мусульманским преданиям, возглавить воинство правоверных и предшествовать возвращению в мир Пророка Исы.
Происхождение тюркских легенд разное – в первой легенде впереди идет гипотетическая тенгрианская молитва. Начало второй легенды предваряет мой вольный перевод песни великого туркменского поэта Махтум Кули «Болар сен», который сделан с казахской интерпретации. Это терме является моим самым любимым с детства, и я не мог обойти его в своей книге.
В парапсихологии существует такое понятие как «регрессивный гипноз». Он позволяет человеку, войдя в трансовое состояние, якобы увидеть свои прошлые реинкарнации. Я не обучен этим техникам, но у меня получается некоторое самопогружение в транс, которое позволяет включать неизведанные каналы
восприятия. Я ранее обращался к нему, когда писал стихи. В частности, однажды я попробовал в состоянии некого транса написать «Легенду о волках». Меня поразило то, что слова и образы полились неостановимой рекой, причем логика развития событий в них и связь явлений совершенно не продумывалось мной заранее.
Та версия «Легенды о волках», увы, потерялась, потому что писалась авторучкой от руки и сгинула где-то среди вороха ненужных бумаг. Спустя долгое время я попробовал вернуться к этому сюжету уже в рамках романа. Вначале меня охватил страх, что такой тип вдохновения дается лишь раз, и я его, что называется,
прохлопал. К моему удивлению, стоило мне погрузиться в состояние трансового воображения в древнюю Великую Степь, как образы моментально восстановились, и рассказ полился «на бумагу» с новой силой.
Не знаю, возможно, этому есть какое-то сугубо научное материалистическое объяснение, но я пока лишь рассказываю факты реально происходившего со мной. В сущности, мне все равно, что это было – гипнотический сеанс, выкрутасы воображения, тяжелая пища на ночь или полет в другие времена и миры. Меня интересовала моя книга, и мне неважно было на тот момент, откуда, из какого точно запасника фантазии берутся эти сюжеты.
То же самое касается и вопроса Гульмиры о попытке реинкарнации тенгрианства. Да, конечно, у меня есть своя вполне научно-историческая картина того, чем являлось тенгрианство на самом деле, а что является выдумками современных авторов. Но на момент написания книги, мне был совершенно неинтересен научный концептуализм,
пусть он где-то непроизвольно и выплеснулся в романе. Тенгрианство как религиозный культ погибло в пучине веков, но отнюдь не из-за неконкурентоспособности в описании мироздания. Гибель тенгрианства логично
связана с длительным кризисом, а затем и с гибелью конно-кочевых цивилизаций и их философий, вместе с их истинными и природными носителями. Однако говорить о том, что его космогония и традиции утеряны навсегда, было бы неверно. Ислам и тенгрианство создали неповторимый симбиоз по той лишь причине, что ислам, хотя и
возник в городской торговой среде, но в период своего могущества опирался на пассионарность аравийских кочевников. Наверное и немногие знают, что перевод слова «араб» примерно такое же, что и «қазақ».
Резюмируя, могу подчеркнуть еще раз – у меня не было задачи реставрации древнего культа, тем более, что я к понятиям культов как таковых отношусь далеко не позитивно. Я лишь погрузился в те времена настолько, насколько мне позволили воображение, транс, авантюризм, самонадеянность или что-то еще – какой механизм оказался важнее и нужнее, мне неинтересно.
Когда я вновь вернулся к сюжету «Битвы волков», он вернулся в других словах, но все идеи первоначального варианта сохранены до мелочей. Поэтому я точно знаю, что слово – это мой инструмент, он живет в моем аппарате мировосприятия и общения. А вот воображение и фантазия – могут жить где попало, шататься по каким
попало мирам, проникать в бог знает какие смыслы, восстанавливать чью-то, может и вовсе не мою память.
Ответы на эти вопросы получились вроде как вполне убедительными. Но вы будьте Фомой – сомневайтесь. И ищите сами. Вдруг я все это наврал?)
.svg)