
 О моделях развития казахстанского общества
О моделях развития казахстанского общества

 О кризисных явлениях в управлении
О кризисных явлениях в управлении О комплексности внутриполитической доктрины Казахстана

 О новой иерархии угроз национальной безопасности РК
О новой иерархии угроз национальной безопасности РК

 Об оппозиционной мысли в Казахстане
Об оппозиционной мысли в Казахстане

 Власть и общество
Власть и общество

 Президент, власть и общество
Президент, власть и общество

 Власть и общество. НТПР
Власть и общество. НТПР

 О некоторых концептуальных аспектах внешней политики Казахстана
О некоторых концептуальных аспектах внешней политики Казахстана

 Кризис управления в сфере внутренней политики и модернизация системы информационно-идеологического обеспечения власти
Кризис управления в сфере внутренней политики и модернизация системы информационно-идеологического обеспечения власти

 Современные модели инновационного государственного управления Система сбалансированных политических показателей
Современные модели инновационного государственного управления Система сбалансированных политических показателей

 К вопросу о создании партии правого толка в РК
К вопросу о создании партии правого толка в РК

 О возможных сценариях реализации проекта «правая идея – правая партия»
О возможных сценариях реализации проекта «правая идея – правая партия»

 Партийно-политическая система Казахстана
Партийно-политическая система Казахстана

 К вопросу о сущности soft power и возможности его применения Казахстаном
К вопросу о сущности soft power и возможности его применения Казахстаном

 Основные направления развития Казахстана в поствыборный период 2011 года
Основные направления развития Казахстана в поствыборный период 2011 года

 Тезисы об основных направлениях развития Казахстана в поствыборный период 2011 года
Тезисы об основных направлениях развития Казахстана в поствыборный период 2011 года

 Поствыборный период 2011. Основное политическое содержание
Поствыборный период 2011. Основное политическое содержание

 К вопросу о регулировании политического поля РК в выборный и поствыборный период
К вопросу о регулировании политического поля РК в выборный и поствыборный период

 О необходимости новых качественных управленческих решений
О необходимости новых качественных управленческих решений

 О ситуации в ином ракурсе
О ситуации в ином ракурсе

 О необходимости создания государственного Коммунального Банка
О необходимости создания государственного Коммунального Банка

 Ожидаемый политический эффект от реализации проекта
Ожидаемый политический эффект от реализации проекта

 О необходимости создания государственного Коммунального Банка (2)
О необходимости создания государственного Коммунального Банка (2)

 Новый общественный договор в Казахстане - 1 часть
Новый общественный договор в Казахстане - 1 часть

 Новый общественный договор в Казахстане - 2 часть
Новый общественный договор в Казахстане - 2 часть

 ОД понятийный словарь
ОД понятийный словарь

(ЦКТ «Репутация», 2003г.)
Введение. Моделирование общества как постоянный процесс.
В современную эпоху ни одно общество не может эффективно развиваться, не познав самого себя. В своих идейных и теоретических поисках общественная мысль пытается уяснить себе и донести до других суть своего развития, определить свою научную и идеолого-политическую миссию в мировом сообществе.
Комплексное осознание и научная формулировка такой миссии имеет целью самоидентификацию народа, образующего государство, с одной стороны – через призму геополитики, определении своей роли в истории человечества, с другой стороны – через призму социально-политической организации своего общества, государственных институтов, основополагающих принципов морали, политической этики и социальной ответственности граждан друг перед другом.
Особая ответственность в исторические периоды возложена на элитные круги общества, как властные, так и научные и политические. Под политической элитой подразумевается не столько формальная высокая политическая позиция, сколько потенциал пассионарности народа, способный сформировать лидеров мнений и носителей идеологии из рядов любого социального слоя.
Обычно комплексное видение миссии народа и государства определяют как «идеологию», подразумевающую с философской точки зрения свод идей, формулирующих консенсус между обществом и властью. Консенсус с точки зрения политической представляет собой некую форму общественного договора, удовлетворяющего интересы различных социальных групп. Принципы общественного договора санкционируют поступки во внутренней и внешней политике властной элиты. Нарушение базовых принципов такого консенсуса приводит к социальным конфликтам, приводящим к смещению власти.
Ранее в классической марксистской идеологии говорилось о классовых интересах в достижении такого общественного консенсуса. Марксистская теория имела достаточно четкую логическую структуру в описании этих интересов и в динамике их выражения в социально-политических процессах. Однако в историческом выражении теория марксизма все равно привела к практике подавления одного класса другим, что, в конечном счете, привело к появлению новой элиты и размыванию классового принципа в государственной организации. Эволюция политической мысли, связанная с историческими реалиями, прежде всего со сложной дифференциацией внутри классов, способных привести к внутриклассовым социальным столкновениям, выразилась в выражении социального разделения в терминах «элита» и «общество». Однако эта эволюция больше выражена в исторических событиях, нежели в доминировании научно-исторического подхода. Речь идет об исчезновении с исторической арены целого ряда стран, базировавшихся в своей социальной организации на принципах марксистской науки. Сегодня политологическая наука отказалась на практике от классового метода оценки событий в большей степени из-за понятий межклассовых «антагонизмов» и прекращения восприятия революции, как социальной ценности. Развитие идеи гуманизма и антивоенного, пацифистского мышления, объявляющие жизнь человека абсолютной ценностью, выровняли в общественном сознании понятия «война», «гражданская война» и «революция». Этим негласно провозглашен во всем мире идеал «стабильного» общества, избегающего социальных катаклизмов, какой высокой идеей они бы не были вызваны. При этом возникла иллюзия, что «стабильность» является идеалом капиталистического общества, якобы в силу своих внутренних экономических законов ориентированного на стабильность, как залог системного и успешного предпринимательства.
Философские и политологические представления о терминах и сути социальных явлений, происходящих в обществе, необходимы для организации процесса научного «моделирования» развития страны. Несмотря на сетования некоторых интеллектуальных кругов, законченность идеологии носит регрессивный, даже реакционный характер, с точки зрения прогресса общественной мысли. Прежде всего потому, что ситуация в мировом сообществе динамично меняется и требует адекватного реагирования со стороны руководителей государства, как носителей идеологии. (Здесь следует разграничить идеологию как таковую и принципы государственной пропаганды). То же самое касается и иллюзорной временной стабильности внутри общества, являющегося ареной постоянного развития и столкновений интересов различных социальных групп. «Законченность» идеологии влечет за собой сакрализацию некоторых образов и постулатов, что лишает правящую группу возможности социального и политического маневра в различных исторических контекстах.
Научное моделирование имеет конкретные прикладные цели в предвосхищении социальных конфликтов и в преодолении потенциального нарушения социально-политического консенсуса. Вообще представление о том, что в идеале консенсус в виде вотума доверия народа, формируется в начале правления той или иной группы или лидера, а затем просто поддерживается, представляется неправильным. С точки зрения правящих кругов это могло быть идеальной ситуацией – своеобразный «карт-бланш» на поступки в определенный исторический промежуток времени. Но необходимо принять во внимание, что другие пассионарные круги элит не прекращают политологических изысканий, общественная и научная мысль находится в постоянном развитии как под воздействием внутренних, так и внешнеполитических факторов. Оппозиционная мысль, в силу своего основного предназначения, конкретно занимается продвижением своих образов и моделей, отличных от властных. Отставание идеологов власти от данного процесса ведет к отставанию руководства государства от реальной лидерской позиции в обществе. Собственно конкурс на лидерство в стране является конкурсом моделей правления, моделей общественного договора. Этот конкурс неотрывно сопровождается оценкой поведения власти в использовании вотума доверия в тех или иных политических решениях.
Ключевой проблемой в определенный исторический момент может оказаться отсутствие необходимого развития научной общественно-политической мысли в стране в силу искусственных причин (жесткая цензура, запрещение критики) и естественных (неразвитость политологических школ, отсутствие должного развития науки). При всей, казалось бы, очевидной выгоде такого положения дел для власти, данная ситуация является крайне неблагоприятной по причине возникновения стагнационных явлений в идеологии на фоне внешнего идеологического воздействия и глобального информационного поля. Отсутствие политологической мысли внутри страны приводит либо к «имитационному» пути развития политологии, либо к торжеству ненаучных, эмоциональных доктрин среди пассионарных кругов населения. Отсутствие конкуренции идей имеет тенденцию к оформлению властной идеологии, как «законченно», иными словами, к ее консервации.
Следствием такой ситуации является реакционное поведение властей в сторону ограничения информационного поля в стране, усилению цензуры, гонений по политическим мотивам, изоляционизму. Такие решения являются в большей степени ситуационными и тактическими, нежели стратегическими, о чем свидетельствуют исторические факты. Режимы, становящиеся на путь информационного изоляционизма, даже при внутренней консервации идеологии, разрушаются извне.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что моделирование развития общества, как научно-политический процесс, является процессом создания необходимой конкурентной среды, рождающей позитивные идеи, как для власти, так и для оппозиции. Вопрос в том, кто занимает в данном процессе лидирующее положение в глазах общественного мнения, тот и получает, и постоянно подтверждает свое право на вотум доверия на правление. Необходимость создания данного процесса для государства, не проповедующего информационный изоляционизм, является вопросом безопасности в сложной геополитической обстановке. Консервация идеологии внутри, даже при изучении политического моделирования властными кругами опыта зарубежных стран, неизбежно приводит к ошибкам геополитического характера.
Самоопределение на пост-советском пространстве.
Ключевым историческим периодом, в контексте которого в данной работе рассматривается Казахстан, является приобретение независимости. Этот исторический факт в истории казахстанцев произошел в русле разрушения образа советского или социалистического пути строительства государства. Принято считать этот путь «коммунистическим», по идеологии правящей тоталитарной партии. Распад Советского Союза имел не только военно-стратегическое значение в мире с точки зрения баланса сил военных сверхдержав. В данной работе мы рассматриваем Советский Союз в качестве лидера научной общественно-политической, марксистской мысли в мире в ключе моделирования путей государственного строительства.
Парад «десятилетий независимости» пост-советских государств выявил широкий спектр моделей государственного строительства, их успешность, зависимость от стартовых условий, геополитических и географических реалий, личностных характеристик лидеров и пр. Также этот парад выявил ряд негативных явлений в общественной мысли всего пост-советского пространства, приведший к неудачам и провалам некоторых государств, воспроизводству сходных проблем в экономике и общественной жизни.
Несмотря на то, что сам по себе процесс самоопределения «новых независимых» является источником бесценной информации и аналитики, необходимо отметить общий недостаток теоретиков и практиков этих стран в подходах к моделированию общества. Этот недостаток характеризуется как торжество «имитационных» идеологий в на пост-советском пространстве, что явилось следствием очевидного невнимания идеологов к гигантскому пласту общественной мысли т.н. «развивающихся» стран. При этом следует отметить и ту объективную реальность, что лидеры стран столкнулись с горячей необходимостью ежедневно принимать фундаментальные для своего народа решения, и история не давала особых шансов для длительной научной подготовки. Исторически этот процесс прошел успешно, так как ни одно государство бывшего СССР не исчезло с карты мира, не захвачено и не разделено на несколько. Некоторое исключение представляют собой Приднестровье в Молдавии и Абхазия, потеснившие суверенитет бывших Молдавской и Грузинской ССР; Нагорный Карабах выпадает из этого ряда, поскольку он стал объектом аннексии одной республикой территории другой.
Парад независимостей, несмотря на разницу между Прибалтикой и Туркменией, прошел, в общем, под флагом реорганизации единого «пост-советского» пространства. В том числе во многом под флагом геополитической безопасности под «зонтиком» бывшей сверхдержавы. В тот период можно говорить даже о неком духе соревновательности между бывшими республиками, и соответственно о системе сравнительных характеристик. На смену суверенной эйфории руководящим элитам пришло осознание того, что они столкнулись лицом к лицу с мировым сообществом и мировым информационным пространством. В таком пространстве необходимо самоутверждаться, строить образ самих себя, и фразы «мы – республика бывшего Советского Союза» для этого недостаточно. Те страны, которые не были в составе СССР, гораздо раньше столкнулись с отсутствием советского «зонтика». На сегодняшний день таких стран как ГДР, СФРЮ и Чехословакия не существует в том виде, в котором они существовали ранее в социалистическом лагере.
Новые масштабы самосознания наций, рейтинги UNDP (рейтинги человеческого развития), показали, что украинскими учеными могут гордиться только украинцы (а мы скорее по привычке), и что проблематика наших обществ далека от французской и очень близка, скажем, к малазийской – проблематике той страны, которую пионеры и октябрята знали гораздо хуже, чем проблематику Германии. В такой ситуации возникла необходимость в тщательном научном изучении общественной мысли тех стран, которые называются «развивающимися», и в советском понимании воспринимались с высоты успехов социалистического пути развития.
Общественная мысль развивающихся стран.
Общественно-экономические теории развития.
Общность развивающихся стран возникла в XVII-XIX веках в результате роста крупной промышленности, технологий и в ходе колониальной экспансии капитала по мере того, как история, переставая быть локальной, становилась всемирной, с точки зрения единого информационного пространства. Следующий этап XIX-XX вв. характеризуется возникновением теорий коммунизма и социализма, приведших к социальным революциям и возникновению государств с коммунистической идеологией, эволюционировавших в социалистический лагерь и страны социалистической ориентации. Раздел мира после II мировой войны на два идеологических лагеря привел к возникновению т.н. «третьемирского» сознания. Одной из важнейших причин возникновения «третьего мира» стало приобретение СССР статуса сверхдержавы с ярко выраженными колониальными методами ведения внешней политики. Сверхдержавность СССР стала причиной идейного отторжения рядом стран образа «справедливости при социализме». Страны, провозгласившие идеологию «неприсоединения», которая в восприятии «третьего» мира выровняла агрессивную роль Запада и социалистического лагеря по отношению к остальному миру и обозначала дистанциированность от глобального спора двух идеологий. Следующим этапом в общественной мысли «третьего мира» стало публичное признание лидерами СССР ошибочности социалистической модели организации общества.
Политическое позиционирование «третьих» стран только в двуполярном мире не отражает всей широты теоретической мысли, посвященной поискам собственных путей развития и самоутверждения в мировом сообществе. Естественно, что проблематика самостоятельного государственного обустройства родилась с крушением мировой колониальной системы. На смену прямому колониализму пришли новые формы зависимости через механизмы вывоза капитала, контроля над природными ресурсами, финансовой кабалы, выдвинувших на первый план понятие «полуколониализма». Парады суверенитетов на Азиатском, Африканском континентах и Латинской Америки выдвинули перед лидерами наций необходимость поиска социальной гармонии внутри обществ и уважения со стороны «сильных» государств.
60-70-е годы представляют собой периоды «переходного», или как сейчас принято говорить «транзитного» этапов для молодых государств. Для этого исторического отрезка характерно «сознание переходного общества» – своеобразный период накопления управленческого опыта, научной мысли, роста уровня самосознания, являющийся для всего третьемирского сознания некой всеобщей объяснительной чертой. В этом могут просматриваться весьма полезные аналогии для пост-советских государств. Полезность эта, несмотря на коренные изменения в мировой геополитике, позволит «не наступать на грабли», обучаясь на ошибках предшественников.
Далее следует период интеллектуального взрыва в среде теоретиков «третьего» мира – и, как следствие, появление многообразия форм национальных идеологий. Спектр этих идеологий простирается от «революционных демократий» до симбиоза национализма и индуистического общинного капитализма.
Формы и типы сознания. Не погружаясь в разнообразие идей, считаем необходимым выделить две основные формы общественного сознания, составляющие конкурентную среду в странах «третьего» мира.
«Периферийное» или «имитационное» сознание строится не только на принятии Запада как референтной модели, но и на выработке имитационного стиля мышления. Принцип референтной модели предполагает, что субъект если и отчленяет себя от внешнего мира, то мыслит себя лишь зеркально, через нормы, опыт, ценности референтной модели, воспринимая эти ценности как универсально-значимые, действительно всеобщие.
«Самосознание». Для самосознания характерны отторжение как референтных моделей, так и самого принципа референтности. Стиль мышления критичен и носит подчеркнуто творческий характер, так как отрицание референтности позволяет обращаться к нескольким равноценным моделям. Архетипы самосознания представлены идеями традиционности и альтернативности. Самосознание чаще апеллирует понятиями «духовность», «духовные и исторические ценности».
Помимо форм сознания существуют социальные виды сознания, выражающие два основных понятия:
- отношение к данному общественному порядку;
- духовная установка на практическую деятельность (ориентирование на созидание или разрушение, сохранение или коренное изменение, опора на собственный опыт или на опыт других и пр.)
Исходя из этих понятий, можно выделить четыре типа социальных видов сознания: бунтарский, преобразующий, консервативный и адаптационный. Типы сознания, образуя комбинации между собой, составляют его формы. Так «периферийное» сознание, совпадая с адаптационным в период становления, впоследствии включает в себя элементы преобразующего вида (в реформистском виде). В то время как самосознание, зарождаясь, может основываться на бунтарском типе, впоследствии получить и консервативные и преобразующие черты.
Видение форм и типов сознания приобретают особую важность при концептуальном моделировании политического поля, как с теоретической точки зрения, так и в ракурсе практической организации. Особенно четко структурируется анализ поля политических партий, идеологическая роль этих партий и их вклад в развитие теоретических моделей будущего страны.
В настоящей работе не будут рассматриваться такие этапы теоретической мысли развивающихся стран, как национально-освободительное сознание и «полуколониальное» сознание. Эти аспекты будут рассмотрены ниже в главе «Развитие общественной мысли в Казахстане» через призму их присутствия в нашей истории и действительности.
Здесь рассмотрены модели социально-экономических теорий, сформулированных на основе различных форм сознания и получивших практическое воплощение в различных странах «третьего» мира. В данной работе эти теории рассматриваются не столько с точки зрения экономического моделирования, сколько в ракурсе влияния экономических концепций на общественную мысль и политическое поле различных стран.
Периферийное или имитационное сознание.
Концепция «периферийной экономики». Основные положения концепции «периферийной» экономики сформулированы латиноамериканскими учеными в конце 40-х годов – аргентинским экономистом Р.Пребишем и бразильцем С.Фуртадо. Главным научным центром разработки данной экономической теории стала Экономическая комиссия ООН для стран латинской Америки (ЭКЛА). Ученые группы ЭКЛА – Пребиша участвовали как в теоретической разработке, так и в осуществлении ряда экономических мероприятий. Анализируя существующую систему международного разделения труда, Р.Пребиш сформулировал понятия «центр» и «периферия», ставшими основополагающими в экономических теориях развивающихся стран.
Концепция «периферийной экономики» формировалась в постоянной борьбе, в дискуссиях с экономическими доктринами Запада. Школой ЭКЛА – Пребиша критиковались неоклассическая политэкономия, монетаризм, теория модернизации с ее принципом «догоняющего развития», кейнсианство, принцип laissez faire и пр. Прежде всего, речь шла о критике «универсализма» западных моделей, о том, что внедрение их на периферии обречено на неуспех. Однако формула успеха виделась представителями этой школы в достижении идеализированного «зрелого», «нормального» капитализма, а все отклонения от референтной модели расценивались как временные инструменты на пути продвижения к цели.
Не касаясь международной практики школы ЭКЛА – Пребиша, перейдем к описанию их концепций во внутренней экономической политике. Основным направлением развития представители данной школы видели в создании современной национальной промышленности, обеспечивающей внутренний рынок, а главным средством ее стимулирования считали протекционизм. Соответственно на передний план выдвигалась идея планирования и регулирующей роли государства. Р.Пребиш выделил следующие задачи, которые должно решать государство:
- разработка политики капиталовложений с использованием внутренних ресурсов и внешних источников;
- стимулирование внутренних накоплений;
- осуществление политики замещения импорта отечественной продукцией с помощью протекционизма и других мер поддержки национального производства;
- осуществление мер по снижению уязвимости экономики от внешних факторов и конъюнктурных колебаний;
- кредитная поддержка частных национальных предприятий в отраслях, представляющих общенациональный интерес;
- проведение «глубокой и настойчивой политики» во всех сферах развития.
Большие надежды представителей ЭКЛА связывались с импортзамещающей индустриализацией. Последовательность этапов ее развития рассматривалась следующим образом:
- Развитие, ориентированное на экспорт сырья;
- Затем – замещение импорта потребительских товаров краткосрочного пользования;
- Далее – замещение импорта потребительских товаров длительного пользования;
- Замещение импорта машин и оборудования;
- Дополнение импортзамещения развитием отраслей промышленности, ориентированных на экспорт.
Однако уже к концу 50-х годов стала очевидной иллюзорность надежд на то, что слаборазвитость и периферийность могут быть преодолены в процессе экономического роста, основанного на классических западных моделях. С середины 60-х годов латиноамериканские ученые столкнулись с негативными результатами внедрения технологий школы ЭКЛА, в частности говорилось о феномене «роста без развития». С.Фуртадо объясняет это явление тем, что развитие приняло «очаговый характер» за счет концентрации развития вокруг современного высокопроизводительного сектора, что не влияет на развитие всей социальной системы, более того рождает дезинтеграционные процессы в обществе. В национальной экономике возникает «инкрустированный сектор», не заинтересованный в решении социальных проблем, связанных с социальной дифференциацией и бедностью. Сырьевой и технологический сектор все более становится «флагманским», в то время как остальные сферы экономики все более приобретают черты «аутсайдерства». В таких условиях «перераспределяющая» роль государства становится все менее эффективной, поскольку лобби «флагманского» сектора переориентирует государственный аппарат изнутри. Инкрустированный «анклав» является достаточно закрытым с точки зрения подбора кадров, что дистанциирует его от проблем безработицы.
Логические схемы перераспределения «сырьевых» средств под контролем и протекционизмом государства в импортзамещающие сферы столкнулись с новой формой экономической дезинтеграции, и как следствие – зависимости «периферии» от «центра», изменившей качество, но не сам принцип зависимости. В реалиях оказалось, что ни государство, ни рынок не выполняют должным образом своей функции регулятора процесса воспроизводства. Причину этого представители школы ЭКЛА видят в феномене «потребительства» – противоречии между достигнутым уровнем развития экономики и потребительскими стандартами различных слоев населения, так называемый «демонстрационный эффект». А фундаментальным фактором считают влияние «периферийного» мышления на политическую структуру развивающихся обществ.
Считается, что характерной чертой доктрины ЭКЛА – Пребиша является переоценка роли государства и недооценка действия стихийных экономических сил. Однако именно рыночные механизмы сработали против доктрин теоретиков этой школы. Сильное государство формировалось узкой группой лиц, имеющих рыночные интересы. «Имитационное» сознание создало следующую ситуацию:
- По образцу иностранных инвесторов правящие группы не реинвестировали «излишки» средств от продажи сырья и внедрения новых технологий, а занялись накоплением средств в «центрах», отчуждая значительные финансовые ресурсы из «периферии».
- «Инкрустированный» флагманский сектор привел за собой высокий стандарт потребления – так называемый «демонстрационный эффект». Потребление нарушило баланс импорта и экспорта, так как качество товаров на внутреннем рынке не удовлетворяло уровень потребления, принесенного «извне». Казалось бы, повышение спроса должно было создать необходимые условия для проведения политики импортзамещения. Однако внутренние накопления были инвестированы либо в сферу обслуживания и развлечения, либо в поставку товаров класса «люкс» и даже продуктов питания западного качества.
- Государственный протекционизм утратил свои регулирующие функции, но приобрел черты рыночного субъекта, в силу появления собственнических интересов у той группы, в руках которых находится государственное управление.
Эти процессы значительно углубили имущественную дифференциацию развивающихся обществ. Произошло слияние интересов флагманской «инкрустированной» экономики и государственной верхушки, основанное на высоком стандарте потребления, принципах (вернее местах) накопления и инвестирования. Слияние интересов привело к возникновению политических режимов, стоящих на страже существующего положения. В 80-е годы представители школы ЭКЛА подвергали критике правительства и правящие слои развивающихся стран, как извративших роль государства, как главного агента развития.
На основе практического опыта внедрения идей школы ЭКЛА – Пребиша большинство ученых сделало вывод, что «периферийная экономика» обладает несомненным потенциалом роста, но не способна преодолеть ключевые проблемы общества, поэтому имеет низкий потенциал развития. Либерально-реформистская основа данной школы не привела к созданию универсальных рецептов для стран «третьего» эшелона, но легла в основу развития теоретического и практического поиска моделей государственного строительства во всем мире.
Концепция «зависимого развития» (Депендентисты). Корни данной теории основаны на академической теории роста для отсталых стран, разработанной в 50-х годах на Западе. В частности, речь идет о теориях Э.Дюркгейма, М.Вебера, И.Шумпетера, считавших, что все существующие истории человечества биполярны и развиваются одинаково от «низшего» полюса к «высшему». Эти теории содержат в себе черты социал-дарвинизма, переносящего эволюционизм Ч.Дарвина из природы в общество. В соответствии с такой логикой «новые нации» автоматически пополняют семью развитых капиталистических стран, после того как пройдут период модернизации по схеме «догоняющего» развития. Теоретики «зависимого развития» исходили, прежде всего, из критики западных схем, а также из очевидных неудач их практического внедрения в развивающихся странах. Особенно это касается теорий Д.М.Кейнса и неокейнсианства, концепции «мультипликатора и акселератора».
Теоретическая мысль депендентистов начала оформляться в 50-х годах и отражена в трудах латиноамериканцев Ф.Кардозо, Э.Фалетто, О.Сункеля и П.Паса и египетского ученого С.Амина («жесткий» вариант концепции). В концепциях присутствует либерально-реформистское и леворадикальное течения, что в какой-то мере это связано с влиянием идей марксизма в мире.
Депендентисты расширили понятие «зависимости» и сделали его центральной составляющей своей теории. В 60-70-х годах даже развернулась широкая дискуссия в научном мире о сущности зависимости. Зависимость, в понимании депендентистов, «означает структурное положение, в котором слабоинтегрированная система не может завершить свой экономический цикл без исключительной… опоры на внешнее дополнение». «Внешнее дополнение» поступает из центров в развивающиеся страны в виде необходимых для функционирования их экономики капитала, технологий и прочих ресурсов. «Таким образом, воспроизводится зависимость».
Депендентисты искали ключ к пониманию трансформации общества и причин, которые препятствуют этому процессу, во взаимодействии внешних и внутренних структур, в каналах воздействия международного капитала на периферию. Они отмечали изменение форм зависимости в соответствии со структурными сдвигами, происходящими как в центрах, так и на периферии – от прямого ограбления (присвоения сырья и разорения местного мелкого производства) до «демонстрационного эффекта», описанного еще школой ЭКЛА. «Демонстрационный эффект спустил курок» импортзамещения, которое привело к формированию дуалистического общества. Однако дуалистичность рассматривалась не с точки зрения «модернистов», как деление на традиционный и современный сектор. Под дуалистичностью подразумевалась социоклассовая поляризация обществ по стандартам потребления, что привело к невозможности создания «среднего» класса, с которыми связывались перспективы демократизации в экономике и политике. Таким образом, экономический рост в условиях зависимости неизбежно приводит к увеличению социальных контрастов и экономических диспропорций. Слаборазвитость – это не переходная позиция, не стадия развития, а порождаемое зависимостью имманентное свойство периферии.
Однако депендентистам свойственна тенденция к абсолютизации «зависимости», как единственного фактора, порождающего весь комплекс противоречий в развивающемся обществе, и отрицается, таким образом, автономия внутренних социальных противоречий. Антиимпериалистическая направленность теоретиков «зависимости» характеризует популярность марксистского подхода к «общему кризису капитализма», что характерно для леворадикального течения этой концепции. В частности, сторонники «жесткого крыла» теории (Самир Амин) считали, что в основе взаимоотношений «центр-периферия» лежат неэквивалентный обмен, который является по сути «формой глобальной организации эксплуатации». С.Амин отрицает тенденцию распространения капитализма «вширь» – на периферию.
Несмотря на то, что марксистские взгляды с исчезновением СССР потеряли свою популярность в общественном мнении «третьих» стран, базовые теории концепции «зависимости» продолжают играть важную роль при анализе развития современных обществ.
«Латиноамериканский» подход в сочетании с концепциями египетского ученого С.Амина, однако, не обеспечил превращение рассмотренных выше концепций в общую теорию развивающегося мира. Идеи оказались ограниченными в рамках «своих» регионов. «Зависимость» не отражала адекватную азиатскую специфику, в той же мере как в версии Амина не укладывается латиноамериканская реальность. С другой стороны концепции «периферийной экономики» и «зависимости» явились теоретическим обоснованием основных принципов практической политической деятельности в странах развивающегося мира.
Аспекты, согласно которым данные теории квалифицируются как «имитационное» сознания выглядят следующим образом:
Во-первых: исходным пунктом анализа было сравнение с «классическим образцом» – развитием капитализма на Западе, выяснение причин «почему у нас все иначе».
Во-вторых: решающее значение уделялось внешнему фактору, воздействию мировой системы.
В-третьих: несмотря на то, что объектом исследования являлись все сферы и секторы общества, но главным был экономический анализ.
Следует отметить, что одним из основных выходов из сложившейся ситуации в «третьем мире» являлась необходимость региональной интеграции развивающихся стран. Интеграция должна была создать с одной стороны альтернативное поле справедливого взаимообмена, с другой – единую позицию развивающихся стран во взаимоотношениях с «первым» и «вторым» мирами.
Концепции альтернативного развития.
В данной главе рассматриваются концепции, основанные на такой форме сознания в общественной мысли, как «самосознание». Для этой формы характерна опора на конкретный социально-исторический опыт, попытки конструирования «идеальных» моделей будущего состояния общества, возможных путей их достижения. Существенной особенностью данной формы является также повышение значения духовности, традиций, исторических форм в организации общественных отношений.
Способ развития и стратегия развития. Приверженцы альтернативных теорий впервые вводят такие понятия как способ развития и стратегия развития. Эти понятия не являются идентичными между собой. «Способ развития» отражает попытки осмыслить, схватить суть оптимального варианта развития, в то время как «стратегия» означает воплощение теоретических представлений в практическую плоскость.
Очевидно, что во многом обсуждение способа развития было связано с противопоставлением социалистического и капиталистического способов развития. Советская литература того периода была склонна определять выбор способа только среди двух альтернатив. Однако появление понятий «другое развитие», «альтернативный путь развития» значительно расширило спектр представлений о «способе развития», в частности через призму разнообразия взглядов на демократические институты.
«Другое развитие», «Неотрадиционализм». С одной стороны, понятие альтернативности, как «снятие» прежних представлений, появились в 60-х годах на Западе, как интеллектуальные движения «контркультуры», отрицание морали и ценностей буржуазного общества, различные леворадикальные движения и пр. Эти явления отразили готовность западного общественного сознания подвергать сомнениям основные либерально-буржуазные ценности, как неоспоримую модель эволюции человеческого общества.
С другой стороны, через отрицание принципов «догоняющего развития» общественная мысль развивающихся стран наполнила идею альтернативности принципиально новым содержанием. Наибольшее влияние на формирование этой идеи оказали общие достижения современной мировой научной мысли – в области общей теории систем, глобального прогнозирования, истории различных цивилизаций, культурной самобытности. Также огромное влияние на теоретиков данного направления оказали долгосрочные прогнозы мировой экономики, показавшие ограниченность сырьевых ресурсов в природе, и, как следствие, тупиковость сырьевого пути, не позволяющего достичь стандартов жизни Запада за счет продажи ресурсов.
Широкое развитие термин «альтернативного развития» получил во второй половине семидесятых, когда шведский фонд им. Дага Хаммаршельда подготовил два документа – доклад «Развитие и международное сотрудничество», опубликованный под названием «Что сейчас? Другое развитие» (1975) и сборник «Другое развитие: подходы и стратегии» (1977). В области идей альтернативного развития работают многие национальные и научно-исследовательские организации – ЮНЕСКО, Азиатский институт развития ООН (Бангкок), Центр по изучению развивающихся обществ в Дели, Международный фонд по исследованию альтернатив и пр.
В среде радикальных и умеренных сторонников альтернативного развития существует широкое согласие по поводу непригодности «старой модели» – «зависимого капитализма», «догоняющего капитализма» с точки зрения того, что эта система стимулирует насаждение в молодых государствах имитационных моделей развития, потребительства, усиление очаговости экономического роста и обострение социальных проблем, а также «экономизированность» мышления. Критика миросистемных аспектов привела к: с одной стороны – к необходимости учета национального своеобразия, с другой – к постановке проблем развития на глобальном, общемировом уровне.
Согласно докладу «Что сейчас? Другое развитие», альтернативные пути должны быть:
- направлены на удовлетворение подлинных человеческих потребностей (материальных, духовных политических);
- эндогенны, при которых каждое общество само определяет свое будущее и стратегию развития, исходя из собственных ценностей;
- самостоятельны, опирающиеся на собственные силы на местном, региональном, национальном и международном уровне;
- разумны с экономической точки зрения, что предполагает равноправное и рациональное использование ресурсов биосферы на самоподдерживающей основе.
Отрицая расцвет потребительства, который «неумолимо толкает мир к катастрофе», в основу главной ценности общества идеологи «другого развития» ставят «не производство вещей, а совершенствование человека».
Очевидным недостатком данной теоретической мысли является чистое отрицание капитализма и индустриальной цивилизации вообще. Решение проблем видится в традиционализации современных технологий и модернизации традиционных методов хозяйствования. Другим недостатком является отсутствие единой школы, что характеризует это направление скорее, как сумму знаний и ценностей, как практическую духовность.
Однако ценность данной теоретической мысли заключается в новаторских идеях на микроуровне. Речь идет о преодолении отчужденности масс на местах от демократического процесса. Концепция «партисипатной демократии», например, предполагает «поиск новых политических образований, основанных на традиционных ценностях», включая альтернативные версии государственных институтов на базе несовременных форм власти и легитимности. Существуют также концепции коллективистских методов организации труда, основанных на взаимопомощи, неформальных методах образования, позволяющие приблизить процесс обучения к практике. Иными словами, одним из важнейших процессов в развитии общества «неотрадиционалисты» считают широкое вовлечение масс на местах в управление, посредством участия в традиционных и нетрадиционных формах выборов – т.н. «развитие через участие».
Следует отметить и признание одинаковой сути влияния стран социализма на развивающиеся страны – концепции «равной ответственности».
Несомненной теоретической ценностью данных концепций является опора на самосознание, позволяющее избежать референтного моделирования, а напротив, использовать все многообразие моделей в своем развитии.
Концепция «Опоры на собственные силы». Впервые идея опоры на собственные силы (Self-reliance) была четко сформулирована на III Конференции неприсоединившихся государств в Лусаке (1970г.). Главные ее положения сводились к следующему:
- рассчитывать на собственные силы и с этой целью проводить твердую политику организации собственного социально-экономического развития;
- полностью использовать свои права и выполнять свой долг с целью оптимального использования естественных богатств, территорий и прилежащих морей для развития и повышения благосостояния своих народов;
- подчинить внешние факторы достижению национальных целей и удовлетворению национальных нужд.
Концепция полагает, что главной задачей является переориентация хозяйственных приоритетов на преимущественное удовлетворение потребностей своего населения и обеспечение таким образом прогресса общества в целом. Следовательно, речь идет об усилении роли национального рынка и стимулировании внутреннего спроса. Рассматриваемая концепция предлагает первоочередное развитие таких национальных промышленных единиц, которые способны обеспечить основные внутренние потребности населения в продовольствии, одежде, медицинской помощи и др. Это должно обеспечить прочные связи между остальными секторами экономики, что позволит преодолеть характерную дезинтеграцию, «очаговость» развития национальных экономик.
Недостатки импортзамещения и импорта технологий с Запада должны преодолеть «трудоинтенсивные» технологии, позволяющие оптимально использовать трудовой ресурс на местах.
Как полагают авторы концепции, для компенсации воздействия внешних факторов на национальную экономику следует увеличить степень переработки сырья, экспортируемого на мировой рынок.
Крайней формой данной теории является «изоляционизм» вплоть до автаркии, появление которого во многом объясняется положительной конъюнктурой середины 70-х, выразившейся в эйфории по поводу внутренних возможностей освободившихся стран после резкого роста цен на нефть и на многие виды минерального сырья. Однако большинство теоретиков «опоры на собственные силы» видели очевидную опасность изоляционистской политики, видя отсутствие реальной долговременной стабильности ситуации и смещая акцент в сторону необходимости регионального сотрудничества развивающихся стран.
Коллективная опора на собственные силы. Основные элементы данной концепции были сформулированы на V Конференции глав государств и правительств неприсоединившихся государств в Коломбо (1976 г.). Новая гипотеза о развитии периферии гласит, что «сохраняющееся болезненное состояние международной экономики нельзя рассматривать в качестве циклического явления, оно должно быть признано проявлением глубоко лежащих структурных изъянов». В сочетании с международным экономическим порядком система коллективной опоры развивающихся стран на собственные силы должна способствовать радикальной перестройке существующей системы мирохозяйственных связей, преодолению зависимости «третьего мира». Соответственно на первый план выдвигается необходимость сотрудничества развивающихся стран на международном уровне с целью выражения коллективной защиты интересов.
Опыт 70-х и 80-х годов показал, что транснациональным корпорациям удается использовать в своих интересах потенциал развивающихся стран, в частности через механизм усиления среди них конкуренции за привлечение иностранных инвестиций. Эффективность и скоординированность такой деятельности ТНК значительно опережает скоординированность действий и коллективность среди развивающихся стран, что выдвигает конкуренцию за западные инвестиции на уровень приоритетов национальных экономик. Теоретическое осознание этого феномена, однако, не привело к разработке комплексного видения практических мер по реальному согласованию внешнеэкономических приоритетов отдельных государств.
Концепция Нового международного экономического порядка (НМЭП). Данная концепция характеризуется прежде всего тем, что через ее призму произошла масштабная идентификация «третьего» мира, как субъекта мировой истории. Именно данная концепция наиболее полно впитала в себя достижения мировой политико-экономической мысли и практики. Идеи НМЭП стали предметом разработки практически во всех странах мира, ученых и специалистов разных групп государств.
В теоретическом плане проблематика НМЭП включает в себя три группы проблем:
- характеристика всемирного хозяйства и его подсистем, в первую очередь положение развивающихся стран в мировом капиталистическом хозяйстве;
- стратегические экономические цели развивающихся стран;
- способы и методы достижения этих целей.
Концептуальная основа НМЭП строится на четырех ключевых идеях:
- признание полного национального суверенитета над природными ресурсами и экономической деятельностью;
- демократизация международных экономических отношений с целью обеспечения равноправного участия развивающихся стран в решении мировых экономических проблем;
- регулирование мирохозяйственных отношений на межгосударственном уровне с целью ограничения рыночной стихии и контроля над деятельностью ТНК;
- создание льготного режима для развивающихся стран в системе международных экономических отношений.
Масштабность изучения и подготовки концепции, однако, не выполнили главной задачи. При достоинствах критической части, убедительном обосновании необходимости новых принципов в международных экономических отношениях, теоретики НМЭП столкнулись с трудностью выработки единой концепции НМЭП. Многие исследователи считают, что нет даже согласованного понятия НМЭП.
Влияние идей «периферийной экономики» привело к «апеллятивной» сущности концепции. В большей степени теория представляет собой рекомендации, большую часть которых должны выполнять развитые государства.
Парадоксом теории является и недостаточность внимания, уделяемого проблеме необходимости внутренних преобразований в развивающихся странах.
Однако при всей парадоксальности, теория НМЭП обладает рядом несомненных достоинств. Основным достоинством концепции является формулировка политического потенциала объединения развивающихся стран, как общности, способной к преобразованию международных экономических отношений. Совместным политическим действием может компенсироваться экономическая слабость «третьего мира».
Геополитическая самоидентификация стран «третьего мира» в условиях двуполярного мира имела огромную историческую ценность. Фактически с появлением концепции НМЭП консолидированное самосознание большой группы государств заявило о «трехполярности» мира, о наличии третьего комплексного видения развития, помимо буржуазного и социалистического.
Можно констатировать, что теория НМЭП является важнейшей итоговой вехой в развитии общественной мысли развивающихся стран в послевоенный период и до развала СССР. Следует отметить то, что к периоду распада социалистического лагеря «третьемирское» сознание так и не выработало универсальных панацей по преодолению основной проблематики молодых государств. Тем не менее, данный период характеризуется фундаментальным подходом к научному моделированию, огромным практическим опытом в государственном строительстве, масштабным видением региональной и международной интеграции. Очевидно, что исчезновение «второго» мира и его главного апологета – Советского Союза – внесло значительные изменения в геополитическую структуру мира и, соответственно, привнесло новые реалии в общественную мысль развивающихся стран.
Перечень моделей общественно-экономической теории и практики был бы неполон без рассмотрения феномена Тигров Восточной Азии. Обычно данное явление делят на две основные волны: первая – это Тайвань, Гонконг, Сингапур и Южная Корея, и вторая – Таиланд, Малайзия, Индонезия.
Экономическая практика «тигров первой волны» основана на том, что наилучшим решением для этих стран явилось создание экспорториентированной экономики, превращение их в своего рода «страны-фабрики», которые импортировали сырье и экспортировали готовую продукцию, созданную дешевым трудом местных рабочих. Помимо сырья, которого эти страны в силу географических причин были лишены, ставка также была сделана на импорт технологий в области товаров потребления, электроники и пр. «Излишки», появившиеся в результате внедрения технологий, реинвестировались обратно в технологии и инновационный сектор.
Одним из важнейших факторов, обеспечивших такую политику, стали географические и историко-демографические особенности этих стран. Географическая составляющая выражена в расположенности «тигров» в зоне Римланд – морской периферии азиатского континента. Историко-демографические особенности связываются со многими факторами – этнической спецификой (китайским трудолюбием) и дешевизной трудовых ресурсов, размещением Японией в этих странах производств товаров, требовавших удешевления конечного продукта, выпадению из континентального политического мейнстрима и пр. Однако одним из самых главных факторов успеха «тигров» считается авторитарность режимов (за исключением Гонконга) и комплексная политическая воля лидеров – Пак Чжон Хи, Ли Куан Ю и Цзян Цзян-го.
Под тиграми «второй волны» подразумевается рывок в развитии Таиланда, Малайзии и Индонезии.
Эти явления породили явление, известное под названием «экономического чуда тигров Юго-Восточной Азии». Анатомия данного «чуда» представляет собой предмет пристального изучения исследователей и политиков, даже несмотря на сокрушительный кризис 1997 года.
В данной работе рассматривается роль «экономического чуда тигров ЮВА» с точки зрения их вклада в общественное сознание третьего мира и моделирование способов развития.
«Субимпериализм». Понятие субимпериализма включает в себя несколько основных черт. Прежде всего, это то, что региональная интеграция среди «третьих стран» не рассматривается в качестве поля, в котором выстраиваются альтернативные «империалистическим» более «справедливые» отношения, построенные на принципе равенства и солидарности. Напротив, «третьи страны» рассматриваются как перспективный рынок сбыта для промышленных товаров, производимых в третьих же странах. Но принципы сотрудничества построены не на романтической третьемирской солидарности, а на жесткой капиталистической выгоде. Наиболее ярким примером можно считать энергичную политику Южной Кореи на пост-советском пространстве, поглощавшем огромные объемы корейских товаров, не столь высокого качества, нежели, скажем, японские, но, безусловно, высшего качества, чем местные. Обширный пост-советский рынок впоследствии обеспечил предприятиям Кореи качественный скачок в производстве электроники и автомобилестроения, позволяющий сегодня корейским товарам успешно конкурировать уже во всем мире.
Феномен тигров ЮВА является образцом отражения чистой «имитационной идеи», распропагандированной аналитиками в качестве торжества западной референтной модели развития. «Субимпериалистические» стандарты поведения приветствовались на Западе, как отражение «правильной» капиталистической политики поведения на внешнем рынке.
Появление «субимпериалистических» тенденций внесло значительный раскол в идеологию «интеграционистов» третьего мира, стремившихся к его формированию, как единого целого.
Западная транзитология. Предтечами современных транзитологических концепций принято считать К. Маркса и А. де Токвиля, давших классический анализ переходных процессов, прежде всего на основе изучения революционных изменений и политических трансформаций во Франции с конца XVIII по конец XIX века. Маркс выделяет в работе «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» (1852) социально-экономические детерминанты политических трансформаций, тогда как Токвиль в «Старом порядке и революции» (1856) на первый план выносит институциональные характеристики переходов. По мнению А. де Токвиля, при переходе от «старого порядка» к демократической республике, во-первых, вначале происходит ослабление старых институтов, которые теряют эффективность и поддержку; во-вторых, наступает революционный взрыв, который окончательно разрушает старые формы, и, в-третьих, в постреволюционный период многие обычаи и правила, компоненты институтов вновь воспроизводятся. Такие последствия в свое время подготовили почву для реставрации монархии Бурбонов или восстановления Наполеоном III империи.
В контексте политических переходов Токвиль выделяет консервативную роль бюрократии, ухитрявшуюся сохранять в новых институциональных формах множество старых правил игры. Парадоксальным ему представлялось и то, что при всех изменениях центральных органов власти во Франции, когда «верхушка администрации менялась при каждом перевороте, самый организм ее оставался незатронутым и жизнеспособным, прежние функции исполнялись прежними чиновниками, которым удавалось пронести через многообразие законов свой дух и образ действия. Они судили и управляли именем короля, затем именем республики, наконец – именем императора. Затем колесо судьбы завершало очередной поворот, и они вновь управляли и судили во имя короля, во имя республики, во имя императора, оставаясь теми же и свершая те же действия. Какое им было дело до имени господина?» Эта идея Токвиля о воспроизводстве старых правил игры в новых политических формах выглядит достаточно актуальной для пост-советских государств, в том числе и для Казахстана.
Активная разработка теории транзитологии началась в 1970-е годы. Появление этой методологической конструкции во многом было связано с критическим анализом и попытками преодоления недостатков теории политической модернизации. Одним из первых политологов, предпринявших попытку разработки модели демократического перехода, был Д. Растоу. Он формулирует исходное положение для построения динамической модели политической трансформации: «Факторы, обеспечивающие устойчивость демократии, не обязательно равнозначны тем, которые породили данную форму устройства политической системы: при объяснении демократии необходимо проводить различия между ее функционированием и генезисом». Новизна этого подхода состояла в переносе акцентов с постоянных факторов, обеспечивающих функционирование режима, на все время изменяющийся контекст политической динамики, его генетические предпосылки и переменные величины, определяющие характер, направление и темпы движения.
В 1980-90-е годы разрабатывается целый блок моделей демократического перехода, связанных с именами А. Пржеворского, Ф. Шмиттера, Г. О’Доннела, X. Линца, С. Хантингтона и др. Например, стоящий на позициях «аналитического марксизма» А. Пржеворский, в центр своей концепции перехода к рынку и демократии ставит динамику соотношения социальных сил, выделяя на основе этого критерия две основные фазы: «либерализацию» и «демократизацию». На первой фазе изменение соотношения сил между правящей и оппозиционной группировкой, связанное с усилением давления «снизу» и расколом «сверху», либо может привести к конфронтации, которая вызовет репрессии и усиление авторитаризма, либо, наоборот, ослабит его старые политические институты. Вторая фаза непосредственной демократизации связана уже с неким продвижением реформаторов вперед и достижением компромисса с умеренными силами правящей элиты по поводу конституирования основных демократических институтов, возможность которого открывается при перевесе сил оппозиции и поддержке их действий «снизу».
Таким образом, скорость прохождения фаз и выбор альтернативных путей перехода к демократии во многом обусловлены расстановкой и соотношением сил основных политических акторов. На близкой позиции стоят известные транзитологи Ф.Шмиттер и Г.О’Доннел, которые больше внимания уделяют аспектам институционализации политических изменений, а также добавляют еще одну, третью их фазу – ресоциализацию, на которой происходит освоение гражданами демократических ценностей и правил игры, включение их в новую политическую систему. Ключевым моментом перехода к демократической системе, по их мнению, является принятие всеми политическими силами новых институциональных механизмов, в соответствии с которыми власть отдельных лидеров и определенных элитных групп заменяется надперсональным и неопределенным господством официальных процедур и конституционных норм.
В рамках транзитологических подходов выделяются концепции, уделяющие основное внимание исследованию экзогенных (С. Хантингтон) и эндогенных (X. Линц) аспектов перехода от авторитаризма к демократии. В своей работе «Третья волна» (1991) директор Института стратегических исследований Гарвардского университета С. Хантингтон утверждает, что переходные процессы внутри отдельных стран можно объяснить лишь в контексте глобальных политических изменений, мировых «волн демократизации». Таких волн в нынешнем столетии было всего три: пик первой волны пришелся на завершение первой мировой войны, когда рухнули многие автократические режимы, развалились Австро-Венгерская, Германская, Османская и Российские империи. Затем последовал мощный откат назад и установление авторитарных и фашистских режимов (Германия, Италия и др.). В 1922 году в мире насчитывалось 32 демократические страны, а спустя двадцать лет их осталось только 12. Пик второй волны попал на 1950-е годы, но к началу 1970-х их число снова уменьшается. Начиная с 1974 года в границах третьей волны около 40 государств постепенно переходят от авторитарного к демократическому правлению. Постепенная внутренняя демократизация осуществляется под влиянием экзогенных факторов мирового процесса. Но при этом возможны три разных пути демократизации, зависящие уже от эндогенных факторов:
- трансформация, при которой сильная правительственная группировка диктует оппозиции условия пакта о демократизации страны;
- перегруппировка, когда существует баланс сил между правительством и оппозицией, в результате которого замена руководителей происходи путем переговоров и
- замена, в ходе которой под давлением масс «снизу» оппозиция сменяет правительство.
Одним из результатов исследований профессора Йельского университета X. Линца стала разработка взаимосвязанных концепций «консолидации демократии» и «завершенного демократического перехода». С точки зрения X. Линца, степень продвижения и характер изменений в стране, переходящей к демократии, может быть оценена при помощи следующих характеристик: «Демократический переход завершился в том случае: когда достигнуто определенное согласие по поводу политических процедур смены правительства; когда его приход к власти является результатом свободного голосования народа; когда де-факто правительство получает рычаги власти для разработки новой стратегии, и когда де-юре созданные новой демократией исполнительная, законодательная и судебные власти не должны передавать другим органам свои функции». Что же касается ключевой категории «консолидации демократии», которое означает итоговое состояние изменяющегося политического режима, то Линц выделяет три аналитических измерения, которые дают возможность дать его всестороннюю характеристику.
Во-первых, в «измерении поведения» состояние консолидации означает, что ни один влиятельный политический актор не пробует достигать своих целей антидемократическим путем.
Во-вторых, в «измерении ориентации» общество демократически консолидировано, если большинство населения ориентировано на решение социальных проблем в рамках демократических процедур и институтов.
И, в-третьих, в разрезе «конституционного измерения» правительственные и оппозиционные силы преодолевают конфликты между собой лишь на основе установленных правовых норм и законов. Таковы параметры завершенности переходного процесса, консолидации демократического режима как итога совокупности политических изменений.
В то же время в «третьем мире» процесс консолидации часто бывает прерван и не завершен до конца, создавая симбиотические образования, называемые иногда «демократический авторитаризм» или «авторитарная демократия». Во многом это связано с социокультурной средой, в рамках которой осуществляется политический переход, с реакцией отторжения демократических ценностей и норм доминирующей политической культуры.
Развитие транзитологии и создание моделей перехода к демократии опиралось на анализ демократических процессов в странах Латинской Америки и Южной Европы. Крушение социалистической системы и политические трансформации в Восточной Европе и на пост-советском пространстве привели к необходимости смены транзитологичесой парадигмы или, во всяком случае, признанию ее ограниченности. Ряд западных исследователей признал, что у транзитологии нет ответов на вопрос, почему процессы демократизации различны в разных странах и почему в одном случае происходит переход к демократии, в другом – нет.
Анализ процессов трансформации в России стал основой для критики западной транзитологии со стороны российских политологов, утверждавших, что теория демократического транзита является развитием скомпрометировавшей себя теории модернизации, что все страны мира не могут быть подведены под единый стандарт. Попытки преодолеть нынешний кризис транзитологии предпринимаются через возврат к «классикам», тому же Д.Растоу, писавшему: «Чтобы прийти к демократии, требуется не копирование конституционных законов и парламентской практики некой уже существующей демократии, а способность честно взглянуть на свои специфические конфликты и умение изобрести или позаимствовать эффективные механизмы их разрешения».
Поскольку процессы внутренней трансформации политический систем проходят в определенной международной обстановке, влияние международной среды оказывает существенное (хотя и не первостепенное) влияние на демократизацию. Оно проявляется (по классификации Шмиттера) в форме контроля (установление демократии одной страной в другой стране через открыто применяемые санкции, позитивные и негативные стимулы), диффузии (воздействия неявного, без принуждения), приручения (установления выгодного режима сотрудничества с международными институтами).
Ряд западных и российских политологов предложили изучение политики и общества с позиций неоклассической экономики. Они делают упор на становление и развитие институтов, на влияние традиций, норм и кодеков поведения. Институты понимаются как правила игры в обществе, ограничительные рамки, структурирующие взаимоотношения между людьми. Эти институциональные рамки могут быть трех видов: формальные (зафиксированные в конституции, правовых нормах), неформальные (традиции, обычаи), спонтанно выбираемые в ходе политического процесса (совместные стратегии и соглашения).
Общественные институты постоянно изменяются и развиваются. Изменения могут происходить по двум сценариям:
- трансформация уже существующих неформальных институтов (эволюционный вариант)
- привнесение формальных правил и норм извне, импорт институтов (имитационный вариант).
В осуществлении второго, имитационного сценария ведущая роль принадлежит государству. Импорт институтов может осуществляться по следующим схемам:
- Использование идеальной модели, перенесения в практическую жизнь идеальных конструкций организации политической системы.
- Воспроизведение образцов, которые существовали в истории данной страны в прошлом, но были потеряны (возврат в «золотой век»).
- Импорт образцов из других стран. Например, заимствование институтов демократии, рынка, их насаждение «сверху». В этом случае выделяют «импортера» и «экспортера» (страну, институциональные образцы которой используются).
В последнем случае «экспортер» (представленный одной страной, группой стран или международными организациями) выполняет, наряду с международной обстановкой, роль внешнего фактора, влияющего на процесс перехода. При прямом импорте старые формальные институты заменяются на новые, однако традиционные неформальные рамки продолжают действовать, часто вступая в конфликт с новыми, «импортированными».
Такой конфликт лежит в основе перманентных разногласий между ОБСЕ и Казахстаном (а также другими странами СНГ). Самое последнее его проявление – ожесточенные споры в Мажилисе по поводу Кодекса о земле, который является образцом «импортированного» института и вступает в явное противоречие с традиционными (советскими и досоветскими) представлениями о собственности на землю.
Особая роль государства в развивающихся странах привела к возникновению «лидерских идеологий». Феномен лидерских идеологий связан с тем, что лидеры молодых стран в период создания государств концентрируют вокруг себя интеллектуальный потенциал нации в поисках формулировок способа развития. В такой момент государство становится ведущим научным институтом, исследующим не только теорию, но и практическое их воплощение. В начальный период становления процесс теоретического поиска тесно связан с необходимостью практического государственного строительства. Понятие лидерской идеологии выходит за рамки понятия «идеологии лидеров», поскольку представляет собой целый процесс накопления интеллектуального потенциала в руководстве стран, за которым следует выбор направления и разработка стратегии. В силу исторических причин «лидерская идеология» может быть понятием временным в зависимости от специфики общественной мысли в той или иной стране. Лидерская идеология характеризуется двумя факторами: 1) необходимостью параллельно осуществлять практическую деятельность по преобразованию обществ и теоретические исследования, 2) социальной сплоченностью вокруг государства интеллектуальных кругов на основе разработки принципов независимого развития.
*******
Рассмотрение моделей развития теоретической мысли третьих странах в данной работе подразумевает прикладное значение для Казахстана, в частности с точки зрения моделирования политического поля. Это необходимо, чтобы определить с какими проявлениями форм сознания придется сталкиваться в формировании теоретической конкурентной среды в политической сфере. Главным вопросом является то, какие формы сознания представляют собой социальную опору для правящей группы в стране сегодня, каковы источники их происхождения, перспективы изменения и влияния на умы общества.
Развитие общественной мысли в Казахстане.
В данной главе рассматриваются основные тенденции общественной мысли Казахстана, как единого целого, т.е. уникального комплекса единства и противоречий, имеющего глубокие исторические корни и динамично осваивающего современные научные формы развития. С другой стороны, данный уникальный комплекс форм сознания является неотделимой частью международного развития обществ мира. Мира, субъектами которого являются государства и нации во всем своем спектре многообразия и взаимовлияния.
Развал СССР. Основы идеологии независимого Казахстана складывались задолго до конкретной точки юридического самороспуска Советского Союза. Имеется в виду не длительный период развития национально-освободительного мышления казахов, а период «перестройки», ставший толчком к национальному самоопределению казахстанцев в отдельное государство. Период политического брожения в СССР характеризуется ростом такой формы общественного сознания, как «самосознание», что принимало различные формы – от массовых выступлений в декабре 1986 года до политических образований в виде антиядерного движения «Невада-Семей». Тезис некоторых критиков о том, что независимость Казахстану была «преподнесена на блюдечке» участниками Беловежской встречи, выглядит очевидно поверхностным, поскольку отражает только историческую хронологию, но не готовность казахстанцев к национальному самоопределению. Критики ссылаются на политику Н.Назарбаева в эти дни, в его очевидных попытках сохранения Советского Союза, как геополитического комплекса. Речь идет о критиках внутри страны. В данной точке заметно зарождение столкновения различных форм сознания в общественной мысли Казахстана, отражающих различные тенденции в образе мышления масс и элит страны. Различие трактовок исторических событий, их массовое присутствие в общественном миропонимании говорит о высоком уровне «самосознания» в казахстанском обществе. «Самосознание» как форма значительно старше «реформистской мысли» хотя бы потому, что имеет глубокие исторические корни. Оно и явилось причиной, прежде всего, принятия Декларации независимости Казахской ССР, тогда еще в рамках Советского Союза, в 1990 г.
Не случайно здесь затронута критика политики Н.Назарбаева, поскольку появление «реформистской мысли» связано с появлением в Казахстане первого президента, и официальная идеология носит яркие черты «лидерской». Иными словами, критика официального лидера страны является базовой составляющей, анализирующей не столько личность лидера, сколько принятую им форму сознания. Признание фундаментальности критики, перенос акцента в ее восприятии с сугубо политической публичной риторики на конкуренцию форм сознания, являются главными факторами, необходимыми для моделирования конкурентной среды для идей. Такое моделирование обладает значительным потенциалом оздоровления оппозиционной мысли. Вульгарное выражение «какая власть, такая и оппозиция» имеет глубинный смысл в том, на что в публичной дискуссии расставляются акценты, в каком поле происходит конкуренция идей – в сфере личностного неприятия или в сфере фундаментальной научной мысли. Процесс «выбора полей» является обоюдным как со стороны власти, так и со стороны оппозиции. Однако в конкретных исторических реалиях Казахстана, в условиях, когда государство является основным системообразующим институтом, в большей степени «выбор поля» зависит от власти. Это доказывается характером риторики оппозиции, но об этом ниже.
«Реформистская мысль» в Казахстане основана, прежде всего, на кризисе социалистической модели развития СССР. Истоки этого кризиса во многом лежат в неспособности экономической модели СССР конкурировать во внешнем поле, прежде всего, в среде развивающихся стран. Развивающиеся страны, в том числе и страны социалистической ориентации, не отказывались от ликвидации частной собственности. Причинами этого являлись: тем, что с одной стороны экономические образы обогащения были привлекательнее социального равенства для элит, с другой – развивающиеся страны оказались прочно интегрированы в мировую систему капитализма, прежде всего через колониальное прошлое. С другой – сущность внешнеэкономической политики СССР не отличалась от империалистических держав, поскольку была основана на воспроизводстве зависимости государств «третьего» мира.
Одним из важнейших факторов разрушения социалистического строя изнутри является и «демонстрационный эффект», выразившийся в данном случае в импорте западных стандартов потребления. Данный фактор в среде советских людей имел несколько иную трактовку, нежели в странах со смешанной экономикой: «Почему мы, будучи самой сильной державой мира, имеем такие низкие формы потребления и низкое качество потребления?» Демонстрационный эффект стал авангардом западной пропаганды, чему способствовала интеграция СССР в мировое информационное поле. Идеологическая машина коммунистов оказалась неспособной конкурировать с западной манипуляцией сознания, формы которой были быстро привнесены с политикой гласности в Советский Союз. Сработало и традиционное присутствие западнической философии в России. Однако не стоит считать, что рецептом от этих факторов мог стать информационный изоляционизм в виде «железного занавеса». Скорее речь идет о неспособности закоснелой коммунистической пропагандистской машины противостоять западной форме пропаганды.
События в СССР эпохи перестройки имели широчайший резонанс в мире, в частности в коммунистическом Китае, получившем в результате сдвига общественной мысли в мире, события на площади Тяньаньмэнь. Однако китайское руководство чутко отреагировало и провело значительные изменения в стране, касающиеся не импорта референтных моделей, а нового взгляда на собственный способ развития. Это выразилось, в частности, в либерализации взглядов китайского руководства на вопросы частного предпринимательства и освоении финансовых технологий.
Практически в СССР возобладал имитационный образ мышления, изменивший курс руководства с «оздоровления социализма» на «догоняющее капиталистическое развитие». Во многом сказалось наличие эволюционистских, социал-дарвинистских основ в марксизме, выраженных в теории следующих друг за другом общественно-экономических формаций. Только капиталистическая формация теперь ставилась впереди всех остальных.
Идеология «догоняющего развития» в общественном сознании пост-советского пространства обладала определенной спецификой, отличающей ее от развивающихся стран. Специфика эта состояла в том, что СССР являлся страной индустриально развитой, и речь шла не о создании индустриального общества с нуля, а о реформе и технологическом переоснащении существующего. Этим также объясняется отсутствие влияния неотрадиционалистских концепций, ставящих под сомнение саму целесообразность индустриального пути развития. Оценка стартовых условий пост-советских государств происходила в общественном сознании через призму степени индустриализации, сырьевого потенциала, географического положения и уровня внутренней дезинтеграции экономики, возникшей после распада единого экономического пространства в СССР.
Сохранившееся единое информационное пространство, отчасти благодаря бывшим советским СМИ общесоюзного масштаба, отчасти благодаря единому безвизовому пространству, создало конкурентную среду среди бывших братских республик в сфере моделей государственного устройства. В целом парад суверенитетов прошел под флагом ментального отдаления друг от друга, чему способствовало несколько факторов. Во-первых – «постколониальное» мышление, направленное на избавление от зависимости от Москвы, во-вторых – конкуренция по привлечению западных инвестиций, о которой говорили теоретики «коллективной опоры на собственные силы». Слово «инвестиция» приобрело практически сакральный характер, уровень их привлечения в общественном сознании совпадал с представлением об уровне развития. При этом речь шла о западных инвестициях, что на самом деле неизбежно должно было привести и привело к возникновению воспроизводящейся зависимости от международного капитала, в частности от политики ТНК.
Реформистское мышление требовало от лидеров мобилизации существующего потенциала стран и оценке международной ситуации с точки зрения позиционирования государства на мировом рынке. Оценивая последствия дезинтеграции экономик пост-советских стран, лидеры на своем уровне быстро пришли к интеграционной политике, тем более что кроме экономических остались как традиционные, так и личные связи руководителей стран бывшего СССР.
Однако подходы к региональной политике были разные. Страны Прибалтики, тяготеющие к Западной Европе, использовали схемы «субимпериализма» – эксплуатация «недостатков» развития технологий у соседей. Например, одним из крупнейших продавцов сырья и металлов из стран СНГ долгое время выступала Латвия, используя как собственное географическое положение, так и новейшие технологии продаж на Западе.
В целом официальные идеологии зиждилась на ряде постулатов, пользовавшихся широкой поддержкой общественности:
- необходимость реформирования пост-советских экономик;
- принятие стран Запада в качестве референтной модели развития и строительства основ государственности;
- государство является основным оператором процесса, обеспечивающим реформу и развитие;
- главным критерием развития являются привлечение западных инвестиций, импорт технологий управления, производства и торговли.
Как следствие, референтность западной модели развития рассматривалась и в сфере строительства политических институтов – выборных органов власти, политических партий, свободе слова, информационной политике.
Эти факторы свидетельствуют о широкой популярности идей «догоняющего капитализма» на пост-социалистическом пространстве. Во многом это связано с традиционной идентификацией себя не в качестве страны «третьего мира», а в качестве части индустриально развитого пространства СССР. Это отчасти справедливо, поскольку страны пост-советского пространства, внеся разнообразие форм, все более диверсифицировали облик незападных стран. Сам термин «третий мир» перестал быть системообразующим, поскольку геополитическая ситуация изменилась от двуполярного мира, пока к многополярному, хотя многие говорят сегодня об однополярном характере мирового порядка. Точнее было бы сейчас употреблять понятие незападные страны или страны с незападной формой демократии.
Таким образом, торжество идей «догоняющего капитализма» на пост-советском пространстве объясняется следующими факторами:
- Распад СССР, как апологета социалистического способа развития;
- Распад СССР проходил под флагом «демонстрационного эффекта» и пропаганды Западного образа жизни;
- Отсутствие самоидентификации со странами «третьего мира»;
- Необходимость быстрого принятия практических решений в строительстве основ государственности;
- Отсутствие собственного опыта управления в условиях независимости.
Первая «десятилетка» независимого развития пост-советских и пост-социалистических стран в целом прошла в духе торжества и признания безальтернативности «западной модели» государственного строительства, как универсальной и единственной доказавшей свою жизнеспособность и правильность (в противовес социалистическому способу развития). Идеологическое признание этого фактора на деле означало создание инструментов зависимости пост-советских политических систем от «высокого» экспертного и контролирующего мнения западных стран.
Официальная идеология в Казахстане. Процесс государственного строительства в пост-советских странах при определенной сходности форм породил широкое многообразие содержания политических режимов – от мононациональных идеологий стран Прибалтики до автаркии Туркменистана. Специфика стран начала проявляться с первых же месяцев независимости.
Первые же годы практики государственного управления Казахстаном в условиях независимости показали всю противоречивость простого применения западных форм. Оказалось, что капиталистический мир не собирается выступать равным партнером во взаимоотношениях с молодым государством. На Казахстан свалились все реалии развивающихся стран в мировой системе капитализма. Оказалось, что процесс устранения зависимости от России воспроизводит зависимость от Запада.
В руководстве страны начались поиски более объективной референтной модели. В определенный момент возник образ Турции, как родственного этнически и интегрированного в Европу государства. Известно, что на взгляды Н.Назарбаева оказал существенное влияние Тургут Озал, проповедовавший идеи объединения тюркских государств в единое геополитическое объединение. Долгое время референтной моделью развития была Россия. В тот период аналитики с уверенностью прогнозировали аналогичные события в Казахстане, после того как они происходили у северного гегемона. Советником президента определенное время был Г. Явлинский. Изучался также опыт «экономического чуда» в Корее, персонифицировавшегося в лице Д-ра Бэнга, оказавшегося в итоге проводником «субимпериалистической» экспансии Кореи на казахстанский потребительский рынок.
Первоначально идеология «догоняющего капитализма» проявлялась в тезисе, что все социальные беды и оппозиционные взгляды исходят от общей экономической отсталости и дезинтегрированности экономики, и что стоит экономике встать на «нормальные» рельсы, все социальные и межнациональные брожения закончатся. Так создавался образ Н.Назарбаева, как хозяйственника и реформатора. Здесь сказывается марксистский подход к действительности с точки зрения превалирования материи над сознанием. Несмотря на то, что в этот период было осуществлено много мероприятий в области фундаментального политического строительства, приоритет экономики всегда существовал и существует в публичном выражении идеологии Н.Назарбаева.
Структурирование. Поиски в экономической сфере требовали идеологического закрепления за государством основных регулирующих функций в противовес стихии рынка. Идеология в отсутствии правящей Коммунистической партии требовала адекватного структурирования наравне с экономикой и государственными институтами. Отрицательное отношение общественности к такому явлению как «правящей партия», обусловленное пост-колониальной инерцией мышления, а также идеи «голлизма», оказавшие влияние на президента страны, привели к формированию «надпартийного» позиционирования Н.Назарбаева. Идея внепартийности распространилась также на всех государственных служащих и впоследствии была закреплена в Законе о государственной службе. Отказ от правящей партийной организации привел к необходимости создания идеологических служб в рамках президентской администрации и правительства. Идеологические задачи были возложены на отел внутренней политики Администрации президента, Министерство по делам СМИ и позиции вице-премьера по идеологии. Формально идеологический профиль вице-премьера не был обозначен, он определялся по принципу «порученной сферы». Министерство по делам СМИ эволюционировало в Национальное агентство при Президенте РК. Фактически это означало то, что роль идеологического фронта возросла, однако многие аналитики объясняют переподчинение агентства враждой министра А.Сарсенбаева с премьером А.Кажегельдиным. Это отчасти подтверждается тем, что после отставки последнего ведомство А.Сарсенбаева вернулось в лоно правительства Н.Балгимбаева. Но вернулось с новым названием, определяющим значение, которое ему придавалось – Министерство культуры, информации и общественного согласия. Такой симбиоз направлений иллюстрирует комплексный подход государства к решению идеологически задач в основных социальных сферах, а также уровень влиятельности А.Сарсенбаева.
При таком позиционировании в обществе государственный аппарат символически становился партией Н.Назарбаева, объединенный «лидерской идеологией» и монолитностью преданности главе государства.
Развитие теоретической мысли в условиях «лидерской идеологии» требовало структурирования «вне» классических структур государственного аппарата, но «при» нем. Такой структурой стали Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК, созданный У.Касеновым, и Информационно-аналитический центр, созданный М.Тажиным.
В целом основы «лидерской идеологии» были закреплены структурно и с правовой точки зрения. Теоретическим наполнением форм стала концепция «разумного авторитаризма», сформулированная М.Тажиным, и ставшая идеологической основой для многих дальнейших внутри- и внешнеполитических шагов власти. В целом, несмотря на некоторую противоречивость, идея «разумного авторитаризма» была встречена общественным мнением с пониманием, поскольку отражала логику происходящих событий.
Развитие. Идеология внешней политики.
Идеи интеграции. Наиболее успешной сферой развития официальной идеологии в области внешней политики являются интеграционные концепции.
Казахстан является единственной из бывших советских республик, в которой идея интеграции пост-советского пространства стала органичной частью процесса государственного строительства. Этому способствовали следующие факторы:
- Отсутствие у казахстанского руководства «комплекса вины» за развал СССР.
- Перенос «внутренней» задачи объединения различных по социально-экономическим характеристикам регионов Казахстана в сферу внешней политики.
- Приоритетность обеспечения внутренней стабильности, понимаемой как межэтническое и межконфессиональное согласие, и проекция этой задачи на внешнюю политику.
- Слабая выраженность «постколониального синдрома» и почти полное отсутствие политической элиты, боровшейся за выход из СССР.
- Преобладание во взглядах казахстанского президента (в силу личного опыта) представления об СССР как о едином народнохозяйственном комплексе.
На более зрелом этапе развития интеграционных проектов с участием России интеграция стала расцениваться как совместное противостояние процессам глобализации, то есть защита общих интересов перед растущей тенденцией к господству «универсальных» (фактически – западных) норм и ценностей в экономике и политике.
Интеграционные процессы на пост-советском пространстве часто объяснялись экономической целесообразностью (единый народнохозяйственный комплекс СССР). Цели интеграционных союзов были также преимущественно экономическими, а в качестве примера использовался Европейский Союз, начинавшийся с объединения стальной и угольной промышленности нескольких стран. Время показало, что простой взаимодополняемости экономик явно недостаточно для жизнеспособности интеграционного проекта, необходимо сочетание целой группы исторических, культурных, геополитических факторов, а также политической воли правящих элит.
Сразу после распада СССР, все пять бывших советских республик Центральной Азии заявили о своей готовности к интеграции, то есть к максимально тесному сотрудничеству по всем направлениям: экономическому, политическому и гуманитарному. Однако вскоре Туркменистан, провозгласивший себя нейтральным государством, отказался от любых коллективных подходов во внешней политике. Реальные интеграционные процессы в рамках Центральноазиатского экономического сообщества (ЦАЭС) объединяли лишь Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан (Таджикистан несколько лет был поглощён решением внутриполитических проблем, его участие в Сообществе являлось чисто номинальным). Утверждённая главами государств ЦАЭС стратегия интеграционного развития предусматривала поэтапное формирование единого экономического пространства: зона свободной торговли – таможенный союз – платежный и валютный союзы – общий рынок товаров, услуг и капиталов.
Итоги пяти лет сотрудничества были такими: товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном сократился с 422 млн. долларов в 1995 году до 212 млн. долларов в 2000 году, а объём торговли с Кыргызстаном за тот же период упал с 202 до 90 млн. долларов. Сообществу пришлось признать, что проблему Арала, на решение которой когда-то предполагалось выделять по 1% от ВВП стран ЦАЭС, самостоятельно, без массированных внешних капиталовложений, решить не удастся. А в сфере безопасности единственным заметным достижением стало создание Центразбата – коллективного миротворческого батальона.
Страны-участницы сходились во мнении, что институциональная и договорно-правовая база сотрудничества и интеграции имеется, дело лишь за практической реализацией достигнутых соглашений. Сами по себе довольно скромные достижения ЦАЭС в деле развития свободной торговли и укрепления региональной безопасности – это ещё не основание для того, чтобы ставить под сомнение жизнеспособность самой организации или идеи интеграции вообще. В конце концов, даже для стран АСЕАН, которые принято считать примером успешного сотрудничества, США, Япония и Европа являются гораздо более важными торговыми партнёрами, чем соседи по Юго-Восточной Азии. А региональная стабильность и безопасность на Асеановском форуме лишь обсуждается, а обеспечивается на практике американским военным присутствием в АТР.
Важнее то, что одновременно и как бы параллельно ЦАЭС происходила интеграция стран Центральной Азии в рамках других структур. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), которое не без оснований считается воплощением идей Н.Назарбаева о евразийской интеграции, включает в себя Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. И в рамках этой выросшей из Таможенного союза структуры удалось многого достичь, прежде всего, в гуманитарной сфере. Да и в области экономики ЕврАзЭС является более «продвинутым». Но Узбекистан не захотел присоединяться к этому Сообществу, поскольку в нём доминирующую роль играла Россия, обладавшая блокирующей 40-процентной долей голосов. Зато Узбекистан вошел в ГУУАМ, организацию, объединявшую Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову – страны, наиболее скептически относившиеся к СНГ и демонстрировавшие прозападную ориентацию.
Тезис о неделимости безопасности в современном мире уже превращается в политический штамп, однако и в этой сфере единства между странами региона не наблюдалось. Ставшее в последнее время заметным стремление Узбекистана к укреплению и расширению военно-политических контактов с США не только вызывало понятное раздражение России, но и шло вразрез с политикой других стран региона. Все члены ЦАЭС, кроме Узбекистана, вошли в Договор о коллективной безопасности стран СНГ.
28 февраля 2002 года в Алматы президенты четырех центральноазиатских государств подписали Договор об учреждении организации Центральноазиатское сотрудничество. Поскольку целью организации было провозглашено решение общих для региона проблем совместными усилиями и региональная интеграция, то на первый взгляд произошло просто переименование уже существовавшего союза Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана, известного ранее как Центральноазиатские экономическое сообщество, а до июля 1998 года – как Центральноазиатский союз. Да, задачи остались в самом общем виде теми же, однако появилось и несколько отличий, указывающих на то, что лидеры центральноазиатских государств пересмотрели свое отношение к региональной интеграции.
Они наконец-то решили отказаться от подчеркнутой «неполитичности» своего союза. Это означало, что теперь президенты будут обсуждать и события в Афганистане, и размещение на территории их государств иностранных войск, и даже такие достаточно отвлеченные темы, как последствия глобализации. Более того, именно эти вопросы вроде бы должны выдвинуться на первый план. Однако и раньше президенты не ограничивались обсуждением исключительно экономики. Например, в апреле 2000 года в Ташкенте было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с распространением экстремизма, терроризма и наркобизнеса. Новая организация стала отличаться от старой не тем, что к кругу обсуждаемых вопросов добавится политика, а тем, что из него будет изъята экономика, во всяком случае, в виде тех амбициозных проектов, которые выдвигались ранее.
Подтверждением того, что проекты экономической интеграции региона отодвигаются на второй план, служит отмена достаточно громоздкого и неуклюжего аппарата ЦАЭС, куда входили Межгосударственный совет на уровне президентов, советы премьер-министров, министров иностранных дел и обороны, а также Исполнительный комитет как постоянно действующий рабочий орган Межгоссовета.
Ещё одна структура, объединяющая центральноазиатские государства – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), созданная первоначально для решения военно-политических, в первую очередь, пограничных вопросов, но к настоящему времени включившая в число своих задач и содействие экономическому сотрудничеству. На последнем этапе к этой организации присоединился и Узбекистан, понявший, видимо, что игнорирование любых региональных структур с участием России может привести его к изоляции от реальных процессов интеграции.
Можно упомянуть ещё две организации, маргинальные в смысле влияния на ситуацию в регионе, которые, однако, могут в случае необходимости быть задействованы для решения как экономических, так и политических проблем. Это ежегодные саммиты тюркоязычных государств (туда не входит лишь ираноязычный Таджикистан) и Организация экономического сотрудничества (включающая, помимо государств Центральной Азии, Азербайджан, Афганистан, Турцию, Иран и Пакистан).
Итак, на сегодняшний день, при всём многообразии региональных структур, ни одна из них не включает в себя все пять государств Центральной Азии. Итоги сотрудничества центральноазиатских стран на сегодняшний день таковы: Туркменистан отвергает любые интеграционные проекты, Узбекистан – проекты с участием России, роль Таджикистана чисто номинальная, он не имеет средств для финансирования каких-либо совместных проектов, а в военно-политическом отношении зависим от России. Полностью совпадающими можно считать позиции лишь Казахстана и Кыргызстана, если не принимать в расчёт членство последнего во Всемирной торговой организации.
В силу целого ряда причин Центральная Азия, даже в случае успешной интеграции, не сможет быть ни самодостаточной экономической системой, ни самостоятельным политическим игроком. Попытки играть на противоречиях между интересами России и США (а также Китая, Турции и Ирана) в регионе, дававшие когда-то неплохие результаты, сегодня уже не имеют смысла, помимо прочего, ещё и потому, что с точки зрения безопасности Центральная Азия по-настоящему важна лишь для России. Именно поэтому наиболее успешными как для нашей страны, так и для других стран региона стали те интеграционные образования, которые не ограничены рамками Центральной Азии, а включёны в процессы более общего, «евразийского» формата.
Отказ от ядерного оружия. По-иному выглядит ситуация в позиционировании страны в более широком поле мирового сообщества. Первой комплексной геополитической идеей являлось объявление Казахстана «безъядерным» государством. Суть данной концепции была выражена Н.Назарбаевым в том, чтобы «получить гарантии неприкосновенности и территориальной целостности без ядерного потенциала», т.е. политическую безопасность должна обеспечить система международных правовых норм. Практически процесс выглядел, как присоединение Казахстана, как независимого субъекта, к международным договорам по контролю над вооружением – СНВ, РСМД, ПРО, ДНЯО и пр. По данному вопросу существовало несколько «векторов» восприятия позиции Казахстана:
- Позиция западных стран, оказывавших однозначное давление на Казахстан к принятию данного решения, в частности позиция США. США сформулировали свое позиционирование в мире через призму доктрины «нового мирового порядка» Д.Буша-старшего, провозглашенного во время первой войны в Персидском заливе. Сущность доктрины сводилась к восприятию мира, как общества, а стран – как субъектов общества. Акцент в восприятии мирового порядка смещался с международного разделения труда между субъектами общества на делегирование (а на деле – присвоение) некоторым странам функций политического регулирования, даже более того силового контроля. Подразумевается некая консервация мирового порядка, в котором существуют страны-финансисты, страны-поставщики сырья, страны-бедняки, страны-оппозиция (в последствии – изгои) и страны-жандармерия. Идеологической базой для такого восприятия мира являлось безоговорочное признание западных политических моделей демократии, как единственно правильных, подкрепленное пост-колониальным и имитационным мышлением республик бывшего СССР.
В такую доктрину никак не вписывалось появление в мировой политике новых субъектов, обладающих ядерным потенциалом.
- Позиция России в большей степени формировалась на основе двух факторов – признании себя в качестве безусловного хозяина ядерного потенциала СССР; и политики собственной безопасности в условиях роста пост-колониального отторжения метрополии в бывших республиках СССР. Имело значение и то, что идеологически для России было ценнее самоидентифицировать себя в «новых» рамках, нежели бороться за сохранение геополитического территориального военного потенциала. Насторожила российских политиков энергичность, с которой главы «новых независимых» национализировали войсковые части ВС СССР на своих территориях. Бывшая метрополия обнаружила на своих рубежах несколько укомплектованных и многочисленных армий, обладавших теоретическим потенциалом быть развернутыми в перспективе и против России.
- Позиция «третьих стран» в общем. Казахстан в понимании третьих стран привлекал к себе большее внимание, нежели Украина и Белоруссия, так как эти страны воспринимались частью славянского мира, тяготеющего к России, и европейского мира, тяготеющего к Евросоюзу. Феномен Казахстана выражался в принадлежности к Азии и по характеристикам экономики к развивающимся странам. Появление ядерной державы в «третьем мире» существенно изменило бы взгляды на гонку вооружений. То, что эта гонка будет продолжаться и с исчезновением СССР, в третьем мире понимали достаточно четко. Однако этот вектор не мог формировать необходимое альтернативное поле для Казахстана, прежде всего с точки зрения гарантий безопасности.
- Позиция мусульманских государств, в сущности, является частью позиции «третьего мира» с определенной спецификой, выраженной в стремлении мусульманских стран в условиях однополярного мира создать мусульманский геополитический полюс. Традиционно в центре данной идеологии стоит Иран, открыто стоящий на антизападных, антиамериканских позициях.
- Позиция этнического национализма является единственным внутриполитическим вектором. Эта позиция выражалась в критике отказа от ядерного оружия, как фактора национальной безопасности. Наличие такой позиции объяснялось несколькими причинами. Первое – рост самосознания казахов в связи с приобретением независимости формировал некоторые необоснованные амбиции, выраженные в том, что переоценивалась геополитическая самостоятельность Казахстана, и отсутствовало понимание новых форм зависимости. Второе – традиционное для советских людей отторжение Запада, который из «потенциального противника» превращался в «гаранта безопасности». Третье – реакция на силовой характер рекомендаций со стороны США и, в общем, осознание своей беспомощности в данной ситуации. Четвертое – понимание того, что геополитическая ситуация, связанная с все более укрепляющейся однополярностью, может измениться, когда Запад, как фактор безопасности, превратится в фактор угрозы. Ядерное оружие рассматривалось в виде гаранта безопасности не обязательно против Запада, но и против соседей – как бывших братских стран, но самое главное – традиционного исторического «оппонента» – Китая. Пятое – понимание ослабления общей системы безопасности, годами формировавшейся в СССР. Носителями этой идеи являлись в основном ортодоксальные противники распада Советского Союза.
Данная позиция не стала комплексной и институционализированной идеей, а скорее осталась на уровне фактора общественного мнения. Причин было несколько: во-первых – феномен «лидерской идеологии» создавал кредит доверия руководству страны и лично Н.Назарбаеву; во-вторых – сторонники идеи вполне реалистично осознавали то, что их мнение на международном политическом уровне никого не интересует.
Существовавшие позиции играли разную роль в принятии руководством Казахстана решения об отказе от статуса ядерной державы, а то и не играли никакой существенной. На сегодняшний день очевидно, что страна успешно осуществила процесс вхождения в международное сообщество, в систему международных договоров, в качестве нового независимого субъекта. Считается, что именно безъядерный статус был пропуском для этого процесса, как свидетельство миролюбивости и конструктивности страны и его руководства. В процессе освобождения от ядерного потенциала явно проигравшей выглядит Россия, утратившая географические характеристики своего военного могущества. В условиях международной обстановки начала 90-х это не выглядело как негативный фактор для Украины, Белоруссии и Казахстана, а также и для общественного сознания, царившего и в самой России. Напротив, ослабление метрополии выглядело как позитивное достижение на фоне торжества пост-колониальной психологии «новых независимых» государств.
По-иному этот процесс выглядит сегодня, в условиях новой геополитической ситуации, сложившейся после 11 сентября 2002 г. В настоящий момент не так несерьезно выглядит позиция общественного мнения по геополитическим принципам организации системы безопасности. В стремлении США укрепить однополярность в мире с помощью военных кампаний без санкций ООН даже создание атомной электростанции в Казахстане может быть интерпретировано США в контексте ядерных программ Северной Кореи. Важнейшим фактором является и то, что Запад, как целостное понятие, все больше устремлен в сторону разъединения американского и европейского полюсов. Достаточно сравнить две военные кампании в Персидском заливе, политические позиции государств и общественное мнение вокруг них. Система договоров между СССР и США по сокращению ОМП была направлена на безопасность мира от противостояния двух сверхдержав и, как следствие, против появления новых полюсов противостояния ядерных потенциалов. Система безопасности сегодня имеет совершенно иные очертания.
На сегодняшний день можно говорить о становлении новых принципов полярности мира. Взрыв общественной активности во время военной кампании в Ираке говорит о возникновении новых явлений в мировой общественной мысли, которые оказывают значительное влияние на развитие общественной мысли в Казахстане. Организация Объединенных Наций, по выражению К.Токаева как «воля и надежда человечества», существенно утратила свою позицию «мирового» судьи. В процессе моделирования геополитического развития может оказаться так, что Казахстан и его геополитические союзники изменят свое отношение к вопросу о ядерном потенциале, который воспринимался прежде как «решенный раз и навсегда».
Однако существует и другая сторона вопроса, проявляющаяся в том, что на сегодняшний день ценность отказа от ядерного статуса возрастает через призму демонстрации «миролюбивости» Казахстана и его стремлению к т.н. «цивилизованному миру», и эффективно может быть использована в противопоставлении себя «агрессивным» странам, противопоставляющим себя новому мировому порядку.
Многовекторность. Наиболее комплексно выраженной идеей во внешней политике Казахстана является концепция «многовекторности». Несмотря на то, что «многовекторность» разрабатывалась в большей степени как дипломатический метод, в общественном мнении эта концепция была воспринята больше, как идеология внешней политики. Крайние оппоненты многовекторности пытались охарактеризовать ее как «бессодержательность» или «неопределенность».
Специфика геополитического положения нашей страны предопределила широту спектра ее внешнеполитических интересов. Казахстан не мог позволить себе проводить пассивную или изоляционистскую внешнюю политику. Неприемлемой была для него и односторонняя ориентация на тот или иной центр силы, которые начали формироваться после распада биполярного мира.
Экономические интересы страны вынуждали ее к активным действиям по привлечению иностранных инвестиций, к поиску партнеров по строительству экспортных трубопроводов, к обеспечению выхода к мировому океану через порты других стран. Необходимость обеспечить безопасность границ огромной протяженности подталкивала к развитию сотрудничества с соседними государствами в военно-политической сфере. Решение экологических проблем, часть из которых досталась Казахстану в наследство от советских времен, а часть возникла после распада союзного государства, также является возможным лишь при согласованных коллективных усилиях стран региона.
Многовекторность не означала равную приоритетность для Казахстана всех основных акторов международной арены (или равноудаленность от всех центров силы). Пределы сотрудничества и его качественные характеристики были различны для разных партнеров. В то же время многовекторная политика позволила Казахстану не стать заложником решений, принимаемых в Москве, Пекине или Вашингтоне.
Многовекторная внешняя политика позволила Казахстану успешно защищать национальные интересы в процессе интеграции в мировое сообщество. Активное участие в региональных структурах как военно-политической, так и экономической направленности было продиктовано не желанием получить статус регионального лидера, а стремлением максимально реализовать возможности для сотрудничества с другими странами во всех сферах, где имеются общие интересы, для коллективного противодействия общим угрозам.
Беспрецедентное в новейшей истории событие – саммит СВМДА, собравший за одним столом представителей 15 государств азиатского континента – стало ярким проявлением поддержки мировым сообществом идеи Н.Назарбаева о жизненной необходимости для современного мира выработки общих взглядов на международную ситуацию и перспективы ее развития, общих подходов к решению стоящих перед человечеством проблем.
Региональный лидер. Центральноазиатские барсы. Оценка потенциала Казахстана с самого начала пост-советского периода привела к возникновению идеи о том, что, обладая таким потенциалом (в первую очередь сырьевым), страна может стать региональным лидером в Центральной Азии. Идея лидерства не декларировалась публично, но амбиции страны были очевидны аналитикам при оценке геополитической ситуации в Центральной Азии. Причем в числе явных конкурентов рассматривается Узбекистан, превосходящий Казахстан по людским ресурсам. Отражением центральноазиатских амбиций Казахстана стало самопровозглашение страны «центральноазиатским барсом», что говорило о стремлении идеологически провозгласить новое «экономическое чудо».
Безусловное лидерство Казахстана в регионе может оспариваться различными аналитиками, но, бесспорно, то, что страна осуществляет «демонстрационный эффект» для соседних стран. Очевидно то, что теоретическое сравнение цифр, отражающих один из самых высоких уровней жизни в СНГ, не так сильно воздействует на общественное мнение в соседних странах, как высокий стандарт потребления и развитость сферы услуг. В принципе сегодня можно говорить о «казахстанском образе жизни», как о сложившемся феномене. Точнее – это «алматинский образ жизни», успешно мигрирующий внутри страны. Например, волна чиновников и предпринимателей, переехавшая в Астану, первоначально столкнулась со стереотипным отторжением местного населения. Впоследствии, рост города, рабочих мест и социальных возможностей продемонстрировали очевидные преимущества столичного статуса Астаны. Но немалую роль сыграло то, что в столицу был привнесен качественно новый уровень сервиса, снабжения и образа жизни. Критериями качественности развития этих сфер являлись «алматинские» стандарты потребления, выработанные годами мегаполисе, одном из крупнейших в Центральной Азии.
Возможно, что в перспективе именно «демонстрационный эффект» обеспечит необходимую базу для лидерской позиции Казахстана в регионе. Однако основным инструментом доминирования являются экономический потенциал страны, позволяющий осуществлять и «субимпериалистическую» политику по отношению к соседям. Представления о том, что вывоз капитала из Казахстана обладает «субимпериалистической» сущностью в общественном мнении центральноазиатских стран представлено достаточно широко. Достаточно вспомнить, что создание газотранспортного совместного предприятия в Кыргызстане встретило сопротивление кыргызских парламентариев, что затягивало решение вопроса очевидной выгоды для обеих стран на несколько месяцев. Такими же причинами частично можно объяснить и отношение России к приходу корпорации «Казахмыс» на Удоканское месторождение.
«Региональное лидерство» является одной из сильнейших составляющих идеологии власти в Казахстане. Даже при том, что напрямую эта доктрина не озвучивается публично, амбиции превосходства в регионе, «демонстрационный эффект» в обратную сторону (то есть наблюдение образа жизни соседних стран), составляют мощную опорную базу для официальной идеологии внутри страны.
Развитие. Внутренняя политика.
Партийное строительство. Формально политические партии в Казахстане стали возникать еще в 1991 году. Однако долгое время они оставались политическими объединениями, представляющими лишь небольшую группу создателей этих партий. Такими партиями являлись Социалистическая партия, СНЕК, ПНЕК и пр. Низкий уровень политического сознания общества обусловил фактическую невостребованность большинства из них.
В конце 90-х процесс партстроительства был инициирован властью в преддверии парламентских выборов. Очевидно, что главной тактической задачей Отана, Гражданской и Аграрной партий было получение большинства мест в Мажилисе 1999. Фактически партии задачи выполнили. Точнее было бы сказать государство выполнило задачи по обеспечении формального партийного представительства в парламенте. Односторонность в постановке задач партиям сказалась в дальнейший период, в период между выборами 1999-2004, в который теоретически партии должны были выполнять функции пропагандистов и агитаторов государственной политики. Провалы в данной работе очевидны, и главный итог их деятельности состоит в отсутствии понимания населением основ государственной политики в целом и отдельных ее программ.
Партии не были ориентированы на конкретные социальные группы, их идеология была крайне размытой. Поэтому задача мобилизации масс (как во время довыборов в Мажилис в 2002 году, так и во время кампании по перерегистрации партий) решалась преимущественно принудительными методами. Поддержка со стороны власти позволяла таким партиям, как Отан, Гражданская, Аграрная, действовать вне идеологической борьбы с появившимися оппозиционными партиями (ДВК, Акжол). Фактически не партии работали на власть, а наоборот.
В условиях роста политического сознания общества выросла не только готовность масс принять участие в политическом процессе, но и их потребность в идеологии, делающей этот политический процесс доступным их пониманию. Этим воспользовались оппозиционные партии, а «партии власти» по-прежнему отказывались от идеологической работы. Их попытки взять на вооружение государственную идеологию не смогли заполнить идеологический вакуум в работе с массами, поскольку проблема состояла не в наличии или отсутствии идеологии как философской концепции, а в способности партий адаптировать ее к уровню общественного сознания.
В результате Гражданская и Аграрная партии носят откровенно «регионально-отраслевой» характер, а Отан политически абсолютно безлик и без поддержки властей утрачивает способность к выполнению мобилизационных функций.
Одной из причин провала официального партийного строительства является то, что процесс моделирования партийных структур происходил, основываясь на доминировании «лидерской идеологии», в отсутствии интеллектуальной конкуренции, как со стороны оппозиции, так и со стороны системно сложившихся общественных мнений.
Недооценка способности общественной мысли генерировать идеи, структурироваться вокруг альтернативного видения политических процессов, а также ограниченность масштаба задач привели к общеизвестной ситуации в официальных партиях.
Нестандартные формы демократии. Ассамблея народов Казахстана, будучи во многом наследницей Совета национальностей времен СССР, является сегодня единственным в своем роде политическим институтом в странах СНГ. Формально ее задачей является обеспечение межнационального согласия и стабильности в стране. АНК является консультативно-совещательным органом при Президенте Республики Казахстан, и ее решения носят рекомендательный характер. Возможность прямой апелляции к Президенту и правительству делает этот институт весьма авторитетным и потенциально эффективным институтом государственной власти. Его роль в политическом процессе до настоящего времени носила эпизодический характер (инициатива о референдуме, предвыборные кампании).
Однако вне зависимости о того, является ли АНК активным игроком на политическом поле в данный конкретный момент, Ассамблея играет крайне важную для многонационального Казахстана символическую роль. Поскольку претензии национальных меньшинств носят преимущественно символический характер, АНК самим фактом представленности в ней 30 различных национальностей (то есть их формальным участием в решении политических вопросов) является постоянно действующим стабилизатором в сфере межэтнических отношений.
ПДС. Постоянно действующее Совещание по выработке предложений по дальнейшей демократизации и развитию гражданского общества (ПДС) создано в ноябре 2002 года. Не имея какого-либо внятного официального статуса и не обладая политическими полномочиями, ПДС начало выполнять функции своего рода «торговой площади», то есть служить местом для политического торга между властью и оппозицией. Показательно, что свое участие в работе ПДС представители оппозиции обусловливают выполнением властью их требований, относящихся не к общему политическому курсу, а к вполне конкретным вещам (например, освобождение Аблязова и Жакиянова).
Участие в работе ПДС политических партий, не представленных в парламенте, а также различных общественных организаций позволяет ему играть символическую роль, сходную с ролью Ассамблеи народов Казахстана (формально закрепленное участие в политическом процессе).
Основные характеристики «лидерской идеологии» Н.Назарбаева. Рассмотрев состояние официальной общественной мысли в Казахстане, можно констатировать, что комплекс взглядов на строительство государственных и официальных общественных институтов представляет собой ярковыраженную модель «лидерской идеологии». Основными характеристиками данного комплекса являются:
- Признание за государством ключевой роли в определении и реализации способа и стратегии развития.
- Придание государственным и около государственным институтам роли «главного научного и стратегического» разработчика моделей развития.
- Строительство государственных институтов по унитарному принципу, как инструмента проведения в жизнь стратегии развития, в том числе и региональной органов управления.
- Строительство общественных институтов и официальных СМИ, обеспечивающее пропаганду стратегии развития. Партийное строительство по принципу создания «партий власти».
- Применение методов моделирования политического поля с созданием «незападных» форм демократии – Ассамблея народов Казахстана, ПДС.
- Широкое применение в идеологии выборов и в идеологии взаимоотношений с политическими оппонентами административного ресурса и силового давления.
Необходимо отметить, что казахстанская модель имеет определенную специфику. В отличии скажем от Малайзии, где Премьер-министр Мохаммад Махатхир является членом правящей партии UMNO (причем не является ее председателем), позиция Н.Назарбаева по отношению к партиям остается двоякой и идеологически недоработанной. С одной стороны, он является почетным председателем партии «Отан», с другой – по закону о президенте страны не имеет право быть партийным, т.е. пытается сохранить «арбитражность» и «непредвзятость» по отношению к партийному движению. В такой ситуации надпартийность и арбитражность становятся чисто теоретическими, поскольку противоречивость данной позиции очевидна.
Официальное партийное строительство является явным отображением попытки официальных идеологов моделировать политическое поле. Подразумевалось создание двухпартийной системы по образцу США и Великобритании. Сама по себе идея является позитивной с точки зрения законченности и сбалансированности, но совершенно не отвечает реалиям общественной мысли в стране. Насколько можно судить по позиционированию партий на выборах 1999 года – «Отан» и Гражданская должны были создать двухпартийную политическую конструкцию. Публично официальными пропагандистами не озвучивалась цель создания двухпартийной системы. О том, что Н.Назарбаев видел моделирование политического поля именно в этом ключе, приходилось догадываться из отрывочной информации, различными путями становившейся достоянием общественности. Появление Аграрной партии в марте 1999г. было воспринято, как естественное решение по борьбе за сельский электорат, который традиционно является пропрезидентским, но запутало представление о двухпартийном принципе организации политического пространства.
Вообще, для официальной идеологии характерен непубличный характер распространения информации. Несмотря на то, что Н.Назарбаевым озвучивалось требование «транспарентности» в деятельности государственных структур, это не коснулось исходящего информационного потока из «Первого офиса». Такая ситуация привела к возникновению феномена «идеологического вакуума», существующего в стране.
Феномен «идеологического вакуума» обычно расценивается как отсутствие комплексной национальной идеи или государственной идеологии, в восприятии общественности и в трактовке «лидеров мнений» в стране. Объективная оценка говорит об обратном – государственная идеология существует, и существует в виде целого комплекса программных документов – от книг и выступлений президента, высших государственных чиновников до комплексной стратегии «2030». Эти документы составляют свод программ, отражающих мнение власти по развитию Казахстана в целом и по всем отдельным направлениям социально-экономической сферы. Свод программ обладает прочной идеологической составляющей, превращающей отдельные материалы в целостное мышление. Однако наличие «идеологического вакуума» у власти является весьма распространенной мифологемой и этому есть ряд причин.
Прежде всего, причины видятся в принципах организации информационного и пропагандистского потоков, исходящих из государственных офисов. Идеологическая работа в основном построена на «жреческом» принципе в противовес «транспарантному» и принципу «активной пропаганды и разъяснительной работы». Суть «жреческого» принципа заключается в информационной закрытости официальных идеологов, по принципу монополии на знание истины, и, как следствие, в публичном продвижении ими «конечных формул», вместо пропаганды и разъяснения основ государственной политики и логики принятия тех или иных решений на властном уровне. Популяризация «конечных формул» допустима для президента страны, но недопустима для идеологов и пропагандистов. В результате официальные идеологи играют в одном поле с президентом, вместо того чтобы продвигать знание государственной политики в общественность. Исходящий из властных органов поток информации идет больше через кулуарные каналы, нежели публичные. Отсюда и традиционное доверие слухам в противовес публичным источникам.
Такая ситуация привела к тому, что в широких слоях общественности во-первых: отсутствуют знания о целях и задачах руководства; во-вторых – эти цели и задачи отданы на откуп интерпретаторов от оппозиции или просто лидерам мнений. Положение, когда общественность пытается самостоятельно догадываться о сути явлений, пользуясь кулуарным информационным потоком и в отсутствии официальных разъяснений и пропаганды, и создало представление об «идеологическом» вакууме власти.
Вопреки своему естественному предназначению, политические партии – «Отан» и Гражданская не обладают системным видением разъяснительной и пропагандистской работы. Особенно это удивительно в отношении «Отана», состоящего в основном из бывших членов Коммунистической партии времен СССР. В то же время именно у КПСС практика доведения решений партии и правительства до «последнего крестьянина» была доведена до совершенства.
Таким образом, в отсутствии необходимого, логически связанного потока публичной информации из «жреческого» круга официальных идеологов, единственным информационным каналом, которому доверяет общественность, являются слухи и интерпретации, исходящие от лидеров мнений, в свою очередь получающих подпитку из окружения Н.Назарбаева. Поскольку этот источник пользуется традиционным доверием у населения, им умело пользуется радикальная оппозиция. На этом фоне наивно выглядят попытки отключения российских телеканалов и доступа сайтов Интернета, поскольку десять увидевших моментально распространяют информацию по каналам «народной почты». Так выглядела динамика раскручивания «Казахгейта» внутри страны. Первоначально информация о зарубежных счетах была массированно распространена среди обширной аудитории, и только затем последовал публичный запрос С.Абдильдина. В целом, разъяснение со стороны И.Тасмагамбетова, общественность встретила уже с сформировавшимся мнением по данному вопросу.
Об эффективности «народной почты» знает и власть, периодически пользуясь «прокачкой» вариантов развития ситуации через общественное мнение. Это касается различных версий о преемниках Н.Назарбаева, о смене правительств, о персоналиях во власти, о конфликтах в руководстве страны, об усилении и ослаблении позиций того или иного крупного чиновника и пр. Обычно «народная почта» не дает сбоев по темпам распространения слухов, интерпретаций и формирования общественного мнения. Однако, чем больше поток кулуарной информации, тем больше формируется спрос на публичную интерпретацию причинно-следственной цепочки событий.
Общественная мысль негосударственная.
Проявление самосознания и «самостийных» или «почвеннических» типов мышления. Жас-тулпар. Организация создалась в виде движения просветительского студентов-казахстанцев, обучавшихся в Москве и Ленинграде в 60-х годах. Движение является первым после Алашорды проявлением казахского этнического самосознания на советском пространстве. На сегодняшний день данная организация представляет интерес тем, что ее участники впоследствии составили костяк культурной и технической интеллигенции в Казахстане. Даже те, кто формально не участвовал в работе движения, ментально причисляют себя к ней. Из рядов организации вышли не только «лидеры мнений», но и такие политические деятели, как Мурат Ауэзов. Несмотря на советское происхождение движения, его можно охарактеризовать скорее, как «буржуазное», точнее, как выразителя идеи «государственного национализма». О высоком интеллектуальном уровне, который проявился в последствии в деятельности жас-тулпаровцев (не как организации, а как выходцев из этого движения), говорят не только их достижения в области культуры и искусства, но и достижения в науке, на государственной службе, а также в подходах к создании национальных казахских инженерных и управленческих кадров. Здесь можно говорить о складывании «индустриального» типа мышления среди жас-тулпаровцев. Некоторые представители этого поколения выражали свои политические амбиции в партиях и движениях «интеллигентского» толка – Азат, Азамат и пр. В 80-х годах в Москве существовал также Жас-тулпар 2, как студенческая организация. Студенты казахстанцы пытались создать земляческую организацию в Москве. Однако, на ее создание был наложен запрет Постпредством, во главе с тогдашним представителем – С.Абдильдиным.
Компартия представляет собой единственную с точки зрения взглядов на способ развития реальную оппозицию буржуазному строю, обладающую сильной теоретической базой марксистов, доставшейся ей в наследство от КПСС. Однако на сегодняшний день партия, считая эту теоретическую базу достаточной, лишена внутреннего идеологического содержания. Партия в принципе зиждется на харизме лидера партии – С.Абдильдина. В принципе, приверженность коммунистической идее носит скорее «инерционный» и протестный подтекст на основе сакрализации коммунистических идеалов СССР, нежели на принципе борьбы за власть. Большинство граждан толком не смогут ответить, за что борется Компартия – то ли за изменение социального строя, то ли за увеличение расходов на социальные программы. Перспективы финансового развития коммунистического партийного движения весьма туманны, поскольку внешние источники финансирования можно теоретически представить только из Китая или КНДР. Можно со стороны говорить о типичном для пост-советского пространства превращении коммунистов в социал-демократов.
Несомненными положительными качествами партии являются: в первую очередь дисциплинированность – на выборах 1999 костяк корпуса наблюдателей составляли именно коммунисты, несмотря на возраст; во-вторых, традиционную сплоченность через призму протеста всем проявлениям капитализма в стране; в-третьих – законченность «коммунистического брэнда» с точки зрения символики на любом уровне и стилистики публичных выступлений; в-четвертых – ассоциированность коммунистической идеи с советской и российской державностью, что привлекает на их сторону большое количество этнических русских; в-пятых, огромный опыт С.Абдильдина в области публичных политических диспутов, его отменное чувство реакции и умения пропагандировать свою точку зрения. В общем, представителей партии можно отнести к выразителям «бунтарского» и «традиционного» типов сознания. При этом лидер партии С. Абдильдин, в политическом поле играет на стороне «демократической оппозиции», подразумевая демократию все же западного типа. Однако, коммунистическую идеологию не стоит сбрасывать со счетов в силу многочисленности рядов, даже несмотря на феномен «физического старения» партии. Появление в Компартии Исахана Алимжанова не стало свидетельством омоложения ее рядов.
Народный конгресс Казахстана теоретически является продолжением развития движения «Невада-Семей», возглавляемого О.Сулейменовым. Само движение является одним из самых ярких примеров проявления самосознания в Казахстане. Об этом говорит, в частности то, что идея движения до сих пор популярна в регионах, несмотря на ее политические трансформации. В принципе, через призму антиядерной риторики, были озвучены основные черты антиколониального мировоззрения казахов. Идея национальной независимости была выражена через призму протеста против радиационного геноцида казахского народа и против колониального положения республики в целом. В советское время в движении, так или иначе, практически участвовали все представители казахской интеллигенции. Многие из них продолжили политическую карьеру в плане создания партий и движений, например М.Ауэзов, М.Елеусизов и пр. Политические амбиции О.Сулейменова выразились в трансформации движения «Невада-Семей» в политическую партию Народный конгресс Казахстана. Однако партия, очевидно, строилась вокруг харизмы О.Сулейменова, который в итоге предпочел перейти на государственную службу.
Алаш претендует на наследие Алашординцев, но подавляющему большинству интеллигенции очевидно, что это не так. Партия «Алаш» начала ХХ века характеризуется насильственно прерванной эпохой просвещения для казахского народа, символизирующей расцвет науки и общественного сознания. В то время как «Алаш» сегодняшнего дня стоит больше на патриархальных ценностях. Несомненно «Алаш» принадлежит к «бунтарскому» типу самосознания. Несмотря на то, что С.Акатаев – выходец из Жас-тулпара, нельзя представить эту партию в виде носителя «государственного национализма». «Бунтарская» сущность «Алаша» заключается в применении в пропаганде к подмене понятий социальной и национальной этнической проблематике. При этом, такая пропаганда зачастую является чрезвычайно эффективной в социально неблагополучной среде.
Русская партия (ныне «Соотечественник») и Казачество представляют собой формы русского великодержавного самосознания. Не случайно именно две формы национального самосознания вылились в столкновения между казаками и алашевцами на западе Казахстана. Контур русских партий в Казахстане значительно меняется в связи с «демонстрационным эффектом» состояния русского вопроса в других странах СНГ.
Оппозиция буржуазная. РНПК. Республиканская Народная партия Казахстана представляет собой ярковыраженную буржуазную партию, лидером которой является бывший премьер А.Кажегельдин. Партия в свое время собрала в свои ряды представителей протестного мировоззрения, однако физическое отсутствие лидера в стране накладывает определенный отпечаток на ее деятельность. В принципе, также является «партией личности» и общественностью воспринимается, как отражение личного конфликта президента и бывшего премьера. Теоретическая концептуальная часть отсутствует, но располагает «багажом» практической деятельности А.Кажегельдина с его политикой приватизации национальных флагманов экономики через механизм «передачи в право управления», образец «имитационного» «периферийного» взгляда на развитие экономики.
ДВК. Наиболее сильный политический брэнд оппозиции. Отсутствие концептуальной мысли в ДВК компенсируется эффектом объединения оппозиции под крылом движения, а также конкретными политическими задачами, выраженными в доступной простому обывателю форме. Активно применяют популизм, современные методы пропаганды и партийного строительства. В принципе, с идеологической точки зрения, эксплуатируют промахи официальной идеологии. При открытой оппозиционности являются представителями «периферийного» мировоззрения, продвигающими референтную модель Запада в казахстанские реалии. И РНПК, и ДВК активно используют каналы зависимости страны от западного общественного мнения. По сути, оппозиционная мысль в большинстве буржуазных партий сводится к смене персон власти, но никак не к смене способа развития или к изменению основ государственного строительства. Лозунг о парламентской республике и отмене президентской формы правления направлен скорее не на изменения формы правления, а на ограничение президентских полномочий.
Акжол. Иной по содержанию структурой является партия Акжол, которая представляет собой наиболее четко организованный отряд оппозиции, по сути отражающий видение оппозиции властью. Основным достоинством партии являются опора на финансово-промышленный капитал олигархических «групп влияния», умение работать с политическими технологиями, эксплуатация политических промахов власти. Перспективы развития партии весьма конкретны. Несмотря на то, что целями партии декларируется завоевание власти на уровне правительства, акжоловцы имеют четкие амбиции к выдвижению кандидатов в президенты в перспективе.
Процессы, происходящие в развитии оппозиции, свидетельствуют о том, что власть проигрывает электоральное поле. Это наглядно можно проследить на примере Акжола, создавшего костяк членов партии во время нашумевшей кампании по перерегистрации партий в связи с количественными нормами. В принципе можно говорить о том, что именно Акжол и является создателем новых «правил игры» на политическом поле. Будучи представителями частного предпринимательства, имеющего четкие представления о правилах PR, рекламы и создания брэндов, акжоловцы наполнили политический рынок новым финансовым содержанием. Вложения в политическое поле рассматривается не иначе, как инвестиции в перспективное получение власти. С теоретической точки зрения Акжол является носителем «реформаторского» и «имитационного» типов мышления, однако теоретическое наполнение их программ является симбиозом практического опыта работы в государственных структурах и политических требований «на злобу дня», т.е. в основном тактического характера. Последняя опубликованная программа партии представляет собой законченную политическую декларацию, созданную по всем правилам политической технологии по форме и содержанию.
Нельзя рассматривать Акжол и буржуазные партии в отрыве от специфики структурирования каналов влияния в казахстанском обществе.
Завершение этапа «лидерской идеологии».
Период «лидерской идеологии», о котором говорилось выше, характеризовался относительной политической монолитностью казахстанской элиты. Единственным существенным фактором, нарушающим такую монолитность, являлся «русский вопрос». Это объясняется доминированием, как в общественной мысли, так и в государственной идеологии казахского этнического национализма. Монолитность элиты в политическом плане может показаться спорной с точки зрения разнообразия мнений в обществе по тем или иным вопросам, а также наличием постоянной критики в адрес руководства страны. Пестрота мнений и критики обусловлена традициями политики «гласности» в СССР, отчасти даже модой на критическое отношение ко всему, что связано с государством, как с «априори антинародным институтом». Плюрализм мнений в обществе не представляет собой серьезного фактора, противостоящего централизованности «лидерской идеологии». Иной расклад сил возникает с развитием общественной мысли и ростом организованности как протестного мышления, так и оппозиционного.
Протестное мышление в отличие от оппозиционного не обладает тенденцией к обобщению общего положения в стране. Обычно оно возникает вследствие негативных фактов общения с государственной машиной, как реакция на конкретный произвол или ущемление декларированных прав и пр. и, как правило, на личном опыте или опыте близких. Известны случаи, когда власть приобретала оппонентов, как говорится, на «ровном месте», и впоследствии эти оппоненты энергично эволюционировали из лидеров мнений в оппозицию.
Оппозиционное мнение гораздо глубже, поскольку речь идет о принятии отличной от официальной идеологии точки зрения на причинно-следственную связь явлений, происходящих на государственном и международном уровне.
Необходим достаточный срок для того, чтобы общественность наблюдала практику государственного управления, сопоставляла ее с международными реалиями, аккумулировала фактический материал ошибок и просчетов власти. Происходит рост научной мысли, создаются негосударственные исследовательские структуры, в СМИ крепнут аналитические обозреватели, не ангажированные властью.
Рост частного предпринимательства, возникновение олигархических «групп влияния», появление бизнес–конфликтов привели к освоению технологий PR, манипулирования общественным сознанием, строительству собственных исследовательских пирамид, чем стимулировали децентрализацию передовой научной мысли.
Самым главным фактором в развитии самосознания является освоение уровней информированности. Не случайно на разных этапах формирования оппозиции крупные государственные чиновники могли претендовать в глазах общественности на собственное мнение о путях развития страны в целом. Именно переход бывших министров и премьер-министров на оппозиционные «рельсы» символизирует завершение периода «лидерской идеологии» и оформления оппозиции в организованный лагерь. Государственные и окологосударственные структуры перестали быть центром общественной мысли и информированности.
Однако все эти процессы были достаточно предсказуемы и, в общем-то, создаваемы со стороны власти, ведь основу для их развития составляют, в первую очередь, взгляды руководства страны на демократизацию, свободу слова, цензуру, плюрализм и пр. Вопрос состоит в том, почему возникают политические кризисы, почему власть не способна «играть» в предвыборном поле без помощи административного ресурса, почему идеологи власти проиграли международное общественное мнение и продолжают проигрывать внутреннее.
В качестве некоторых причин «застойных» явлений в официальной идеологии видятся в:
- отсутствии понимания того, что этап «лидерской идеологии» закончился и правила «игры» на политическом поле изменились;
- несоответствии идеологии строительства государственной машины уровню развития общественной мысли в стране
- неспособности и нежелании идеологического аппарата отказаться от «жреческих» привилегий в пользу стратегических интересов руководства страны, следствием чего являются –
- морально устаревшая и несбалансированная идеология выборов,
- подталкивание власти в сторону применения административного и репрессивного ресурсов,
- отставание технологий борьбы за общественное мнение,
- безликость партийных институтов власти,
- постепенное проигрывание электората оппозиции и протестному мышлению.
Официальные исследовательские структуры и СМИ неизменно демонстрируют первенство Н.Назарбаева в политических рейтингах, чем обосновывают успешность своей работы в глазах главы государства. Глубинные же исследования показывают, что подмена понятий состоит в замене авторитета личности авторитетом власти как таковой.
Таким образом, основной проблемой официальной идеологической машины является отсутствие понимание того, что «лидерская идеология», как доминанта в общественном сознании страны уже практически прекратила свое существование. Официальные же идеологи оказываются неспособными проанализировать ситуацию, и перестроится на наличие новой конкурентной среды в политическом поле. Проще выражаясь, не способны играть в тех «правилах игры», которые могли бы характеризовать политический рынок, как «цивилизованный».
Моделирование, как регулирование состояния общественной мысли.
Идеальной целью политики моделирования, как регулирования состояния общественной мысли, будем считать достижение такого состояния, когда в стране существует конкуренция концепций, противостояние в выборном процессе, дискуссии различной степени жесткости, но при позитивной сумме мнений, в общем направленных на развитие страны.
Само моделирование необходимо разделить на две основные части – на научное и политическое.
Научное моделирование подразумевает развитие научно-исследовательского процесса по изучению моделей развития стран, основанное на развитии форм и типов сознания. На сегодняшний день нельзя сказать, что казахстанская наука не изучает практику государственного строительства различных стран и не осуществляет попыток классификации, как собственного государственного устройства, так и режимов других стран. Однако обычно речь идет об изучении на уровне взаимодействия форм структурной организации общества и экономики, с оценкой успешности или неудачности той или иной модели.
Предлагаемый в данной работе метод основан на изучении, прежде всего, форм и типов сознания, проявляющихся как в общегосударственных доктринах, так и в динамике развития общественной, в частности оппозиционной мысли.
Метод структурного изучения опыта других стран отражает «имитационный» стиль мышления, а точнее «адаптационный» тип сознания. Нельзя говорить, что Казахстан бездумно импортирует формы общественной организации с Запада или Востока. Речь идет именно об адаптационном процессе в принятии или неприятии тех или иных форм.
Политическое моделирование, основанное на научном методе, подразумевает практическое применение знаний о формах и типах сознания в сфере планирования перспектив развития политического поля, прогнозирование поведения носителей тех или иных видов общественного сознания, и, самое главное, изучение и прогнозирование поведения оппозиционных и оппонирующих государству сил.
Политическое моделирование подразумевает активность и доминирование государства в создании и регулировании политических процессов в стране. Государство и, в частности, руководство страны, должны отдавать себе отчет в том, что реально действуют в конкурентном поле, сформировавшем «правила игры», и в этой ситуации необходимо сохранять лидерскую позицию, которая и создаст возможность регулирования. Применение репрессивных методов и административного ресурса на выборах свидетельствуют об утрате именно лидирующей позиции.
Конкурирующая среда создает ситуации «выигрышей и проигрышей», в то время как отсутствие ее создает поле «побед и поражений». Самым главным является то, что политическая среда может быть конкурентной по публичным формам и регулируемой по сути.
В процессе практического моделирования можно определить четыре уровня:
Первый уровень. Создание поля для моделирования. Таким полем является конкурентная среда для идей, концепций, политических позиций, выраженная как в предвыборных процессах, так и в стремлении доминировать в общественном мнении.
Основным принципом в создании поля для моделирования является отказ от приоритета достижений результатов с помощью административного ресурса. Причем речь идет не о принципиальном отказе от применения этого метода, а об отмене его приоритетности. В принципе, уровень применения административного ресурса и является показателем уровня успешности или неуспеха официальной идеологии, особенно показательными являются прецеденты использования репрессивного ресурса.
Приоритетность административного ресурса в политических играх влечет за собой три основные опасности – первая: перетекание административного в репрессивный метод; вторая: отсутствие видения реальных показателей политических настроений электората; третья – предоставление оппозиции постоянной базы, для выстраивания собственной пропаганды.
Через призму отношения к признанию конкурентного поля и рассматривается позиция государства либо как «лидирующая», либо как «реакционная».
Второй уровень. Особую важность для власти представляет собой не просто создание конкурентного поля, сколько создание его с целью лидировать в нем. На втором уровне происходит анализ и структурирование оппонирующих идеологий с точки зрения форм и типов сознания. Классификация фундаментальных первооснов возникновения этих идеологий позволит не только предвосхищать модели поведения тех или иных политических течений, но и прогнозировать степень их влияния на общественное сознание, рост их популярности и потенциал.
Третий уровень. Выстраивание идеологического и пропагандистского комплекса, обладающего высоким уровнем координации и согласования практических шагов поступательного, дискуссионного и оборонительного характера.
Четвертый уровень. «Растаскивание» проблематики общественной мысли из центрального на региональный уровень, из партийного – в общественные инициативы.
Главной задачей власти в текущий период является пересмотр своего отношения к партийному строительству, отражающему официальную идеологию. Создание «правил игры» на этом рынке состоялось, прежде всего, в усиленной капитализации политического рынка. За социальную базу на сегодняшний день воюют крупные финансы, отраженные в инвестициях в СМИ, партийные институты, приобретение политических технологий и обучение им. Власти необходимо мобилизовать свои ресурсы, чтобы вернуть себе лидирующее положение в новых условиях.
Прежде всего необходимо особое внимание уделить партийному позиционированию президента Н.Назарбаева. Речь идет не об изменении норм Закона, касающиеся его партийности, а о том, чтобы уделить публичное и организационное приоритетное внимание к развитию института правящей партии.
Открытое позиционирование Н.Назарбаева, как участника партийного движения может создать такую возможность для политического маневра, когда в преддверии истечения законного срока президентства создаются основы для преобразования Казахстана в парламентскую республику. В такой ситуации создается комплекс правовых норм, позволяющих Н.Назарбаеву фактически остаться главой государства, но уже в качестве Председателя парламента. Основным механизмом исполнения этого замысла должна стать сильная правящая партия, получающая большинство голосов в парламенте. Для парламента в такой ситуации более приоритетна однопалатная форма.
Создание сильной правящей партии не обязательно предусматривает сценарий трансформации в Парламентскую республику. Партия в любом случае является необходимым инструментом идеологической работы. Можно рассмотреть два основных пути развития официального партийного движения. Главной задачей является оценка реальной «электоральной стоимости» партий.
Таким образом, в принципиальных подходах можно рассматривать следующие:
Модели качественного изменения
Модель № 1. Улучшение качественное работы партий.
Партия «Отан». В данном пути развития речь идет о реорганизации партии, а скорее нужно говорить о «реанимации». Позитивный момент сохранения Отана заключается в том, что президент сохраняет стабильность в отношении к своей партийной принадлежности.
На сегодняшний день у партии, несмотря на подавляющее преимущество в количестве членов (порядка 111 тыс. чел) очевидно низкая репутация и эффективность. Более того, по действительно фундаментальным вопросам – по Земельному законодательству, по вопросам развития, в партии наблюдается очевидный раскол, что свидетельствует об отсутствии идеологической целостности в ее рядах.
Реорганизация партии может осуществляться по двум сценариям:
- Создание прогрессивной фракции и последующая «чистка» партии (естественно, без публичного об этом заявления);
- Выдвижение новых требований к партии, исходящих от президента; проведение многоуровневых отчетных собраний с целью оздоровления руководства региональных отделений; назначение на должность Председателя (или и.о.) харизматической личности с организаторскими способностями;
В обоих случаях речь идет о создании принципиально новой Программы партии, отражающей суть ее борьбы за парламентские и государственные кресла и провозглашающей принятие конкурентных «правил игры», отказ от доминирования административного ресурса. Программа включает в себя задачи, стоящие перед партией в предвыборный период 2003-2004.
В обоих случая также идет речь о финансировании партии или прогрессивной фракции. В США, например, на финансировании предвыборных кампаний и деятельности партийных органов работают целые сектора экономики, контролируемые республиканцами или демократами. По сути, эти сектора экономики осуществляют инвестицию во власть.
Стартом программы обновления партии становится официальное объявление о начале предвыборной кампании 2003-2004 и об освещении принципов участия партии в ней. Возможно объявление о создании предвыборного фонда партии.
Важнейшим условием для успешности развития популярности партии необходимо считать публичную дискуссию между различными точками зрения партийцев о Программе партии. Такая дискуссия создаст транспарентный имидж Отана, чего на сегодняшний день не существует.
Модели объединительные.
Модель №2. Формальное объединение партий.
Возможно рассмотрение идеи о слиянии Гражданской, Аграрной партий и обновленного Отана. В слиянии есть определенные преимущества – единый предвыборный фонд, единая предвыборная политика, тактика и стратегия, единые программные документы. Существуют и определенные недостатки – отсутствие видимости многопартийности выборов при доминировании власти. Однако здесь речь идет скорее о другом пути развития официального партийного движения – создании нового партийного института.
Сохранение приоритетности «триумвирата» имеет ощутимую слабую позицию, выраженную в том, что партии не основаны на едином выражении типов сознания. Это, собственно, и приводит к теоретическим расколам в партиях по ключевым вопросам. По составу Отан и Аграрная партия представлены в основном традиционной «самостийной» формой сознания («самосознанием»). В то время как президентская линия проповедует «реформаторский» тип мышления. Несоответствие ментальных представлений о сути политических процессов и создают пропасть между президентом, его официальной политикой и официальными партиями. Гражданская же партия, по поводу которой прочно закрепился имидж партии иностранного капитала, является скорее партией «инкрустированной экономики», нежели национального капитала, и вряд ли имеет потенциал развития в общенациональную, с точки зрения реального электората. Социальный статус Гражданской скорее тяготеет к прочной региональной партии, где индустриальные единицы Евразийской группы являются регионообразующими. Партия может поставлять в парламент прочную, организованную «малую» группу. Большой «пакет» мест в Мажилисе выглядит явно натянутым административно. Имеется также существенный отрыв Гражданской партии от научных и интеллектуальных кругов в обществе, что понижает ее конкурентоспособность в теоретических баталиях.
Модель №2. «Зонтичная структура».
Под «зонтичной структурой», подразумевается создание единого общественного движения, объединяющего все партии власти. В настоящий момент такой объединительной структурой является ДВК, в состав которой входят как партии и общественные объединения, так и отдельные политические фигуры. «Зонтичная» структура может иметь переходные тактические преимущества, связанные со столкновениями личных амбиций руководителей, так как подразумеваются выборы общего руководства структурой. Теоретически существует блок «центристских партий», объединяющий большинство провластных партий и движений, но данный институт является скорее «собранием разношерстных», нежели «консолидацией единых».
Модели созидательные.
Модель № 1. Создание сети общественных объединений и НПО.
Данная модель подразумевает создание не просто партии, как института, а сети общественных объединений по гендерному, возрастному и региональному принципу. В сущности, такая деятельность осуществляется (молодежное крыло Отана, женские и детские организации, фонды и пр.). Но зачастую таким организациям не ставится в рамках общей программы конкретных стратегических и тактических задач, и они перенимают все идеологические и организационные «болезни» головных партий.
Модель № 2. Создание новой партийной организации.
Новая партия. В данном пути развития официального партийного движения подразумевается отказ от «отслуживших» на выборах 1999 партийных брэндов Отана, Гражданской и Аграрной партий. Создание новой партии может происходить по следующим сценариям:
- Объединение трех партий в одну;
- Создание прогрессивной фракции в Отане под лозунгом того, что политика президента была деформирована в рядах существующей партии; создание новой харизматической партии с новым названием; озвучивание Программы;
- Создание новой партии «с нуля» с опорой на новые харизматические личности; провозглашение ею лозунга борьбы за право быть правящей партией.
Формальная дистанциированность Президента от Отана позволит провозгласить наличие конкурентной среды для Программ, и создаст на выборах возможность политического маневра, направленного против партии «Акжол». С формальной точки зрения борьба пройдет между «триумвиратом» и Акжолом. В реальности ставка будет сделана на новое партийное образование.
Во всех случаях речь идет о создании публичного конкурентного поля для Программ партии. С теоретической точки зрения политическое поле можно разделить на «периферийщиков» – Акжол, «самостийщиков» – «триумвират» и «прогрессистов» – новую партию. Прогрессисты возьмут на вооружение индустриальную и демократическую идею, но скорее в «адаптационном» ракурсе, нежели в «имитационном» Акжола. При таком раскладе формы и типы сознания конфигурируются более системно, с точки зрения теоретического идеологического наполнения Программ.
Важнейшим элементом идеологической борьбы необходимо принять и развивать традиции формирования теневых правительств. Данная практика позволит повысить уровень партийцев и, самое главное, в дальнейшем сформулировать юридически принцип формирования правительств с собственной ярковыраженной идеологией. Идеология отражается в партийной программе, являющейся не декларативным документом, а программой деятельности правительства в случае победы.
Очевидно, что присутствует определенный кадровый голод, который может отрицательно повлиять на формирование теневых правительств. Однако создание такого механизма в партиях, собственно, и направлено на преодоление кадрового голода, путем формирования масштабного мышления у целого ряда партийных активистов.
Политика создания теневых правительств создаст серьезные ментальные изменения в ключе взглядов на рост карьеры среди пассионарных личностей в стране.
Главными вопросами в официальном партийном строительстве являются:
- Видение принципов финансирования партийных программ;
- Пакет социальных преимуществ, которые дает членство в партии.
Второй пункт представляется одним из самых стратегически важных, и собственно он и определит реальную институционализацию правящей партии. Если партия является правящей, то она должна заниматься системной подготовкой кадров для практического осуществления этого правления на различных уровнях. Следовательно, партии должны бороться за квалифицированные кадры на всех уровнях и строить систему заинтересованности в «росте карьеры через партию». Складывается система, когда вопрос, за кого проголосовать имеет конкретную практическую выгоду для человека, а не только отражает его систему ценностей. Помимо возможностей карьерного роста кадры заинтересовываются системой партийных льгот, в том числе и финансовых (вроде профсоюзных путевок, поездок на повышение квалификации за счет программ партии, льготных приобретений товаров и продуктов и пр.)
Партийное строительство, таким образом, представляет собой строительство не просто организаций, а цельного экономического комплекса, объединенного единой идеологической базой. Помимо политической солидарности единство подкрепляется корпоративной солидарностью. Создание системы социальных преимуществ, соответственно, изменяет идеологию вступления в партию. Не по принципу «набрать формальное количество», а по принципу «получить качественных членов партии».
Однако, проведение программ социальных преимуществ должно происходить на фоне демократизации партийного поля для оппозиции. Демократизация подразумевает создание теоретической и практической возможности партиям к продвижению своих членов в государственные структуры, например, на принципах коалиционности (например, в регионах). В противном случае зависимость карьеры от членства в правящей партии будет интерпретирована, как зажим демократии и административное насилие.
Формирование «высокой» планки стандартов организации партий приведет в некоторых случаях к существенной потере оппозицией своих позиций в обществе, поскольку она будет либо «переиграна», т.е. не потянет по экономическим показателям, либо выведена за рамки конструктивной политической игры и лишена социальной базы.
*******
Вне всякого сомнения, на сегодняшний день, именно партийно-организационная деятельность является авангардом политических процессов в стране. Именно недостатки этого поля, выраженные в бессистемности экономических отношений, в отсутствии конкуренции идеологий, отражают общее представление об отставании политической реформы в Казахстане. Более того, отсутствие у власти сильного партийного института придает ей консервативный, а временами и реакционный характер в силу отсутствия системных социальных гарантий безопасности при введении или изменении того или иного политического института. Партийное поле должно стать тем самым открытым и конкурентным дискуссионным полем, обеспечивающим национальный диалог.
Регулирующая роль государства в данном случае проявляется в том, чтобы перехватить у оппозиции лидерство в формировании «правил игры» и установить новые качественные параметры для политической борьбы. Горизонтальная сеть партийных организаций должна обеспечивать не только пропаганду идеологии, но и контроль над принципами исполнения программ на местах, принятых президентом страны и руководством партии.
В таком политическом поле, когда правящая партия обладает 60-70 % электората по-другому видятся проблемы выборности акимов разных уровней и партийного принципа формирования правительства, с точки зрения внутренней безопасности страны.
Основным фактором необходимости активизации партийной деятельности является то, что на сегодняшний день общественная мысль страны созрела для политической активности, и народ обладает достаточным социальным энтузиазмом для этого. Проблема заключается в том, чтобы вывести электорат из политологического «неведения» и безграмотности, становящихся причиной популярности мифологем, домыслов и слухов. Инструментом достижения этой цели являются конкурентоспособные и финансово мощные официальные партийные институты.
Формирование партийных фондов, возможно, способно дать формулировку финансовых средств, фигурирующих в «Казахгейте». Можно представить эти средства, как «Фонд гарантии политической стабильности», создание которого было затребовано международными корпорациями, как гарантии безопасности инвестиций. Согласно плану, эти средства должны аккумулироваться в безопасной финансовой среде до того момента, когда руководство страны вплотную приступит к формированию демократического партийного поля. Финансовые средства должны составить необходимый потенциал, способный противостоять в открытой конкурентной борьбе внутри страны идеям деструктивного и антисоциального характера, в частности мощным финансовым потокам со стороны исламских фундаменталистов, коммунистов (Китая, например) и сепаратистов. Средства в дальнейшем должны быть реинвестированы в страну в виде различных фондов поддержки демократии, их цель – в финансовом противостоянии «вредным» идеям. Фонд должен был оставаться непубличным до провозглашения открытой межпартийной борьбы, для чего должны создаться необходимые предпосылки внутри страны и в мире. Здесь очевидна заинтересованность и западных инвесторов в такой трактовке. Может быть, им и должна принадлежать инициатива в «рассекречивании» Фонда, о чем договорятся наши внешнеполитические «идеологи». Власть провозглашает создание нового этапа в политической жизни, демократизирует политическую систему, вплоть до видимых уступок оппозиции, а в качестве гарантии безопасности страны создает ряд программ (по правам человека, по судебной реформе, введению института присяжных и в том числе по созданию правящей партии).
Идеология выборов. В русле проведения политики моделирования партийного поля необходимо пересмотреть отношение власти к идеологии выборов. Именно публичная специфика предвыборного поля создает уникальную возможность продвижения процессов партийного строительства вперед. Прежде всего, это естественно связано с повышенным вниманием общественности к выборам.
Для успешного с точки зрения власти стратегического проведения предвыборной кампании в целом по стране предлагается принятие новой идеологии в подходе к выборам. В виде лозунга это может звучать так «Победа с помощью прочного собственного электората». Это означает: сделать ставку не на формальный результат с применением административного ресурса и манипуляций, а на создание собственной реальной социальной базы в лице электората, голосующего за власть добровольно. В связи с этим, содержание подходов к выборам выходит из технологических рамок на уровень идеологического.
С технологической точки зрения ставки делаются не на технологии манипуляций результатами, а на технологию манипулирования общественным сознанием. Данная задача рассматривает все уровни общественно-политических и административных институтов власти, причастных к выборам, с новой качественной позиции. Особенно это касается институтов, ответственных за публичную пропаганду и агитацию – партий и общественных объединений, а также Министерства информации.
Процесс подготовки электорального поля целесообразно разбить на две основные части с точки зрения времени:
- Работа с электоратом заранее, в довыборный период. То есть формирование фундаментальной социальной базы в неограниченном временем и процедурами пространстве.
- Работа в период официальных предвыборных кампаний.
Довыборный период. Принцип 52 %. Этот принцип является условной тактической формулой для выработки целей и задач партиям власти на выборах. В процессе моделирования за основной фактор оценки успеха на выборах условно примем цифру 52 %. Данный процент гарантирует кандидату избрание в первом туре голосования, согласно выборному законодательству.
Административный ресурс необходимо поделить на две основные части:
- Публичный и
- Скрытые манипуляции.
К «публичной» части отнесем публичные рекомендации власти, региональных руководителей, авторитетных личностей голосовать за ту или иную кандидатуру. В том числе и «настойчивые рекомендации» руководства. К «скрытым» отнесем манипуляции с процедурой выборов, подсчетом голосов, количеством бюллетеней и пр.
Эти две части должны выполнять различные функции. Публичный ресурс должен носить превентивный характер, в то время как скрытый должен носить исключительно резервный характер.
В общем, публичный административный ресурс на практике обеспечивает около 20 % электората. Заметим, что электорат в данном случае голосует добровольно. Или, как принято говорить, добровольно-принудительно. Таким образом, задачей в цифрах видится обеспечение 30 % электората, проголосовавших по убеждениям за официального кандидата. 2 % оставим для резервных манипуляций результатами. При данном раскладе, очевидно, что 2 % – допустимые разногласия между результатами наблюдателей и итоговыми результатами избирательной комиссии.
Об отсутствии комплексности идеологии на выборах 1999 говорит то, что с одной стороны были созданы условия для работы наблюдателей, которые получили к концу дня выборов свои варианты подсчета голосов; а с другой – применялись манипуляции бюллетенями так, что разногласия между начальным и итоговым вариантом были очень высоки, что свидетельствовало о масштабном применении манипуляций. Вообще, выборы 1999 создали огромное количество материала для последующей аналитики.
За что голосуют, как правило, избиратели?
- За власть (традиционно).
- За власть в ракурсе политики Н. Назарбаева (из личных убеждений).
- За личность и ее идеологию.
- За новизну идеи.
- По национальному признаку.
- Против власти (протестное мышление).
- Партийная идея.
- За актуальность идеи и демагогию.
- За решение конкретных проблем.
- За харизму и личное обаяние, имидж.
- Мотивация общей референтной группы (жуз, землячество, профессия).
- За гендерную принадлежность (пол).
- За личные убеждения (оппозиционные).
- За популярность и известность.
- Меркантильный интерес.
Ответы на данные вопросы могут быть скомпонованы между собой в зависимости от личных качеств кандидата и успешности его агитационно-пропагандистской деятельности.
«Принцип 52 %» формулирует конкретные задачи перед партийными, пропагандистскими институтами во время проведения выборов. Одной из главных логических формул оппозиции является то, что официальные кандидаты могут добиться успеха на выборах только с помощью административного ресурса, поскольку идеология правящей власти не является популярной среди населения. Однако это скорее отражение политтехнологического отставания власти от оппозиции, поскольку речь идет не об отсутствии достижений нынешнего руководства, а о недостатках их пропаганды. Главным недостатком пропаганды со стороны официальных идеологов является ставка не на рыночные финансовые ресурсы, а на административные подходы. Можно сказать, что борьба за условные электоральные 30 % голосов является символическим отражение поля борьбы за социальную базу не только на выборах, но и в поддержке политических процессов.
Новая идеология выборов может внести изменения в принципы формирования правительств через парламент, т. е. речь идет о расширении функций парламента. Можно еще раз констатировать то, что вопрос состоит не в том, предоставить ли парламенту такие полномочия, а о том какому парламенту в качественном идеологическом смысле. Подразумевается парламент, большинство которого состоит из представителей партии власти (комплекса партий и движений), выигравшей в открытой публичной борьбе.
В русле новой идеологии выборов возможно необходимо пересмотреть нормы, ограничивающие предвыборные фонды кандидатов. Подразумеваются фонды, не предоставляемые на равных принципах Центризбиркомом, а собранные в частном порядке. Эти фонды могут сыграть роль «легализатора» скрытых финансов, если создать соответствующие правовые нормы.
Технологические вопросы подготовки партий к выборам.
Процесс подготовки к выборам партий с тактической точки зрения следует разбить на этапы:
1-й этап. Исследовательский. Задачей данного этапа является создание беспрецедентно широкого научно-исследовательского поля по изучению настроений электората. В довыборный период создается общее поле по стране. Во время выборов – по каждому избирательному округу. Задачей проведения исследований является прогнозирование результатов и выявление ошибок и провалов в деятельности официальных пропагандистов.
2-й этап. Подготовка аналитики. Аккумулирование идей. Соответствие официального политического поля настроениям населения. Исследование настроений граждан Казахстана позволит креативно взглянуть на соответствие политических и общественных институтов власти состоянию общественной мысли в стране. Аккумулирование идей позволит, как скорректировать технологии популяризации официальной идеологии, так и создать новых выразителей идеологии.
3-й этап. Мониторинг идей. Расстановка потенциала идей по этапам: Маслихаты. Мажилис. Президентские выборы. Данный этап подразумевает рассмотрение банка идей и PR ходов во временном пространстве и динамике эффективного применения по принципу «Идея хороша вовремя». Также это не позволит оголять арсенал предвыборных ходов к президентским выборам.
4-й этап. Мониторинг политических субъектов. Расстановка сил. Данный этап характеризует расстановку идей в политическом пространстве и по географическому признаку. А также постановка пропагандистских задач субъектам пропаганды, являющихся кандидатами в Парламент, лидерам партий и партиям, продвигающим свои персоны в Мажилис. Особую роль играет задача создания новых политических субъектов на идеологическом рынке Казахстана, а именно: политические субъекты:
- Республиканского масштаба.
- Регионального масштаба.
- Личности.
- Общественные объединения.
- Представители общественной мысли.
5-й этап. Организация инструментария. Данный этап характеризуется приведением в соответствие предвыборной идеологии инструментария и каналов информации – государственных спикеров, пропагандистских аппаратов партий, средства массовой информации и пр.
6-й этап. Подготовка специалистов по выборным технологиям. (См. Приложение № 1).
*******
Целью данной работы является отражение мировых достижений теоретических мысли в развитии общественной мысли Казахстана сейчас и в перспективе, попытки моделирования политических процессов через призму регулирования политического поля и официального партийного строительства. Основными выводами работы являются следующее:
- Государству в развитии страны выделяется особая регулирующая роль не только в становлении государственных институтов и основ экономики, но и в развитии публичного политического поля;
- В общественной мысли Казахстана созрели все необходимые предпосылки для создания комплекса партийной конкуренции в электоральном поле;
- Официальное партийное строительство отстает от оппозиционного партийного мышления, как в сфере политических технологий, так и в сфере финансового наполнения партийного движения;
- Оппозиция практически сформулировала «правила игры» в публичном партийном поле и начинает доминировать в общественном сознании; власти необходимо вернуть лидерские позиции за счет использования финансовых и интеллектуальных ресурсов;
- Партийное поле не отражает реальной сути конфликтов и противоречий форм сознания, что лишает его идеологической стройности в глазах электората;
- Власти необходима реструктуризация своего партийного пространства с учетом опоры на динамику развития форм и типов сознания с целью создания собственной социальной базы, являющейся гарантом безопасности страны при проведении реформ политических институтов.
Наша страна является неотрывной частью мирового исторического процесса, и, несмотря на молодость, обладает несомненным практическим и теоретическим потенциалом. Перед страной стоят задачи строительства демократического общества в том понимании, которое выберет народ Казахстана.
Приложения:
№ 1 .Предложения по учебному курсу «Технологии избирательных кампаний»
№ 2. Роль и место олигархических групп влияния на современном этапе.
№ 3. К вопросу о государственной идеологии.
P.S. О политическом кризисе по вопросу о земельном законодательстве. События, связанные с обсуждением Земельного кодекса, убедительно демонстрируют то, что позиционирование политиков происходит или произойдет в большей мере по линии противостояния форм сознания, нежели по стратегической конъюнктуре. Обсуждение Земельного кодекса является не простой процедурой принятия законопроекта, а процессом принятия одного из основополагающих политических институтов – института частной собственности на землю. Из истории видно, что форма принятия данного института может обладать не только эволюционным содержанием, при неблагоприятном стечении исторических условий он может наполниться содержанием революционным. Показательно, что депутаты Мажилиса голосовали больше по убеждениям, нежели по принципу партийной дисциплины. Налицо противостояние «почвеннической» и «имитационной формы сознания, представленные соответственно большинством мажилисменов и правительством. Публичное обсуждение основополагающих институтов общества, таких, каким является вопрос о частной собственности на землю, приведет к изменению социальной конфигурации, как партий власти, так и оппозиции. В оппозиции, или точнее в неофициальной идеологии, все больше будет намечаться преобладание «почвеннической» составляющей. С точки зрения пропаганды вопрос о частной собственности на землю является более простым и доходчивым для населения, нежели пропаганда сложной юридической конструкции, какой является, например, программа партии Акжол. В связи с этим, возможна сильная дифференциация традиционно опорного электората для Н.Назарбаева – сельского – в сторону уменьшения.
Следует отметить то, что текущее разрешение кризиса произошло явно не в пользу президента и правительства. Правительство, при существующей риторике, легко может быть объявлено антинародным, и пропаганда по данному вопросу будет более эффективной, нежели любая другая, раннее используемая неофициальными идеологами. Президенту же предстоит принять решение о подписании заведомо непопулярного закона, иной редакции которого теперь юридически не существует. Остается отправить законопроект обратно на доработку, что усилит «антинародный» окрас правительства И.Тасмагамбетова. Учитывая то, что И.Тасмагамбетов позиционирует себя, как «продукт Назарбаева», а также, учитывая реалии политической системы в стране, негативное восприятие ситуации отразится на имидже Назарбаева лично, как апологета существующей политической системы, и ускорит тенденцию к ее изменению. В частности, по поводу принципов формирования правительства и участия партий в этом процессе. В такой ситуации, возможно, президенту эффективнее самому принять решение об изменениях в политической системе, «по горячим следам» аналитики произошедшего кризиса. Разумеется, с позиции инициативы, а не уступки. Усиление негативного эффекта на имидж президента произошло еще и потому, что в своих публичных разъяснениях причин ускорения темпов принятия законопроекта и бескомпромиссности правительства премьер открыто заявил, что действует по прямому «поручению главы государства». Этим немедленно воспользовались лидеры оппозиции, заявившие, что позиция премьера есть позиция президента.
В Казахстане вопрос о частной собственности на землю является классическим столкновением «почвеннической» и «имитационной» формы сознания, при очевидных преимуществах первых. Преимущество связано с реалиями истории казахов, которые вместе с монголами являлись «последним оплотом» кочевой цивилизации в Азии (речь идет именно о цивилизации), получивших земледельческий сектор через отчуждение земель царской Россией, голод 30-х годов и хрущевскую целину, изменившую в корне демографическую ситуацию в республике. Традиционное «кочевое» восприятие земли остается сильнейшим фактором менталитета, даже при наличии понимания рыночной роли земли. Формирование «почвеннической» группы происходит на фоне именно этой ситуации в общественном сознании, что гарантирует платформе массовый успех в политической пропаганде.
В очередной раз наблюдается процесс игнорирования подготовки общественного мнения и, соответственно, формирования политической конъюнктуры ЗАРАНЕЕ! со стороны идеологов правительства и президента. Очевидно, что аналитики власти не смогли спрогнозировать и смоделировать развитие событий и, соответственно, динамику изменения общественного мнения в стране. Разумеется, что невозможно осуществлять точные прогнозы и пророчества. Речь идет о моделировании развития ситуации во всем многообразии вариантов, прогнозах изменения общественного сознания и о возможности оперативно реагировать на заранее предусмотренную политическую конъюнктуру.
О комплексности внутриполитической доктрины
Казахстана (2006г.)
- Введение
Подходящий к концу 2006 год имеет несколько главных итогов исторического масштаба для Республики Казахстан.
Первое. Победа Президента Н.Назарбаева на выборах. Несколько факторов, послуживших основой победы, помимо фактора личного авторитета действующего главы государства:
- широкая социальная база политического строя, сформировавшаяся на период конца 2005 года в первую очередь за счет успехов экономической модели развития страны на геополитическом фоне в нашу пользу;
- международное признание результатов выборов;
- и главное – способность политического руководства сформулировать программу социально-психологического преимущества над оппонентами на основе осуществления стратегического прогнозирования в рамках политической кампании и реализовать ее за счет мобилизации политических, административных и политтехнологических ресурсов в ответственный период.
Второе. Провозглашение идеологии конкурентоспособности Казахстана. Данная идеология обладает всеми чертами лидерской доктрины, поскольку: ориентирована на востребованность обществом политической реформы демократического характера; направлена на повышение качества жизни казахстанцев; в качестве системы оценки успеха взяты внешние факторы оценки, что делает эту оценку транспарентной, а следовательно, объективной в глазах общественности, что с одной стороны, повышает степень ответственности власти, с другой – формирует необходимый базис доверия.
Важнейшей позитивной стороной принятия доктрины конкурентности является то, что эта идеология сформировала идеологический вакуум в оппозиции.
- О кризисных явлениях– внешние признаки.
Однако 2006 год продемонстрировал то, что линия борьбы за стабильность политического строя сместилась с линии противостояния оппозиции и обладает теперь совершенно иной конфигурацией. В 2006 году назрели и приобрели сформировавшиеся черты иные виды кризисных явлений. Главное то, что признаки кризиса приобрели четкие видимые черты и, следовательно, проходят процесс осмысления и понимания в общественном сознании. Соответственно, процессы осмысления и понимания формируют базовые основы поведения общества, его целеполагания и принятия политических решений.
Процессу осознания кризисных явлений послужил ряд событий социогенного и техногенного характеров, поднявших на поверхность проблемы стабильности политического строя. Эти события, будучи разнородными по своей природе, обладающими различными предпосылками, все же типичны с иллюстративной точки зрения.
К таким событиям и явлениям можно отнести процессы сдвигов в сознании общества, последовавшие после убийства А.Сарсенбаева, конфликты в Карагандинской области и в Атырау, заражение детей ВИЧ-инфекцией в Южно-Казахстанской области, конфликты силовых органов в различных регионах страны, события в Шаныраке и Бакае, формирование общественного мнения вокруг законодательства о СМИ, типы общественной реакции на кампании вокруг зарплат руководителей национальных компаний, обсуждение введения монархии в Казахстане, объединения партий пропрезидентского толка, скандал вокруг деятельности Саши Барона Коэна.
Как ни странно, к этому же ряду явлений можно отнести абсолютную периферийность для общественного сознания работы Государственной комиссии по демократизации.
При этом важность представляют собой не столько сами события, сколько система обстоятельств, легшая в основу их возникновения и оценка публичного поведения властей всех уровней и политических институтов общества, способы принятия ими решений, типы реакций общества как на сами события, так и на их последствия, выводы, которые принимает для себя общественное сознание в латентной форме. Ключевым значением обладает то, смогла ли политическая система найти бесповоротное решение кризисным явлениям или удовлетворилась лишь временной ликвидацией их внешних признаков.
Безусловно, жизнь общества не может протекать стопроцентно благополучно, минуя техногенные и социогенные кризисные явления. В некотором смысле их наличие является неизбежной нормой для жизни любой страны, если через их призму не просматриваются более серьезные вызовы для устойчивости политического строя в целом.
- Причины происхождения кризисных явлений. Общий кризис управления в государстве.
Первое. Основное политико-экономическое содержание периода.
Переизбрание действующего Президента на новый срок произошло на основе квалифицированного решения избирателя, на основе следующих выводов:
- на позитивной оценке деятельности лидера страны за истекший период в условиях выгодного сравнения с другими государствами на текущий период;
- на политическом кредите доверия лидеру страны в качестве единственной политической силы, способной решить основные вопросы жизни граждан Казахстана.
Мнение некоторых политтехнологов о том, что избиратель в основном голосовал на уровне рефлексов либо не отражает действительности, либо направлено на повышение собственной роли в успехе кампании.
Первый вопрос можно считать фактически закрытым на текущий период. Однако второй вопрос остается главной составляющей политической повестки исторического периода, которая требует четкой формулировки именно на историческом уровне.
В стране к 2005 году фактически завершился главный исторический процесс –завершено первоначальное накопление капитала – произошло складывание политических элит, фактически сформулированы принципы формирования социальной иерархии нового казахстанского общества и принципы социальной динамики и мобильности внутри него; сформулированы контуры представления общества об успехе, периферийности и оторванности от благ; заданы направления миграции и урбанизации; произошло формирование различных рынков; сформировано базовое рыночное сознание с растущим пониманием разделительной линии между инициативой и иждивением.
В то же время, как правило, ни в одной стране первоначальное накопление капитала не считается справедливым. Это абсолютно нормальная реакция, поскольку в этот период целью элиты является формирование самое себя в ущерб общественному благу, что естественно в условиях строительства капиталистических отношений. В казахстанских условиях это напряжение усиливается тем, что страна объективно богата, и ее богатство служит в общественном сознании обоснованием фактора успешности предыдущего президентского правления Н.Назарбаева.
Отсюда происходит то, что стержневой доминантой протестности в обществе являлось недовольство части национальной буржуазии своим участием в различных секторах экономики. Это создавало объективный фактор слабости оппозиции, не способной получить искренней поддержки массового электората, четко осознающего ее буржуазность.
Однако на сегодняшний день эта доминанта перестала быть стержневой в силу следующего: основной вопрос народа с выдачей им политического кредита доверия сместился с недовольства от первоначального накопления капитала на рост требований к политическому руководству в построении капиталистического общества «общественного блага».
При этом, речь идет в большей степени о вопросе качества жизни, о ликвидации оторванности от современных благ и, самое главное, о вопросе получения благ больше через реализацию инициативы, нежели через иждивение. Поэтому ожидаемая концепция «общественного блага» носит все же больше капиталистический, нежели социалистический характер. Именно в силу этого решения о простых повышениях выплат населению имеют весьма короткий и тактический успех, поскольку его быстро низводят на «нет» факторы роста цен и инфляции.
Необходимо подчеркнуть то, что в случае неудачи политического руководства в направлении «демократизации капитализма» энергия протестности неизбежно развернется в сторону пересмотра итогов первоначального накопления капитала. В таких условиях строительство капитализма «общественного блага» является на сегодняшний день стратегической необходимостью и главным историческим содержанием периода.
Кризисность ситуации в теоретической части связана с тем, что наличие фундаментальных стратегических программ развития Казахстана все же не содержит достаточно четких ориентиров и сигналов для общества, поскольку не содержат ответов на основной вопрос периода. В обществе существует представление лишь о том, что крупные бюджеты и программы пойдут лишь на обогащение существующей элиты и, что гораздо хуже, на усиление позиций бюрократии в стране.
Особое значение в реализации описанных стратегических задач имеет решительность, комплексность в разработке и подачи идеологии, быстрота, ощутимость и последовательность шагов, скорейшее получение видимого эффекта. Эти факторы обладают высокой степенью важности, поскольку имеет место нижеследующее:
Второе. Общий кризис управления в стране
Очевидно, что в числе основных достоинств политического руководства, помимо видения проблем и задач стратегической перспективы, является способность эти задачи эффективно решить. Здесь мы сталкиваемся с тем основным комплексом проблем, через призму которых можно видеть практически все локальные и общие кризисные явления, имеющие место в обществе.
Ниже приведена схема взаимозависимости и воспроизводства базовых параметров кризиса в казахстанском обществе (см. таблица №1). Таблица лучшим образом демонстрирует взаимозависимость факторов между собой, а также то, как явления служат одновременно источником и следствием друг друга, что демонстрирует оборот воспроизводства кризиса.
Разъяснение таблицы. Оценка сложившейся ситуации позволяет говорить о складывании в Казахстане общего кризиса управления. Ниже приведены причины его возникновения, а также факторы, служащие доказательствами его наличия.
(1). Базовой причиной возникновения кризиса управления является общая культурная маргинализация общества, источником которой в свое время послужили нестабильность в сфере образования и откровенные уровни ее падения, а также падение уровня требований к канонам гуманитарных наук, влияющим на становление мировоззренческих ценностей. Здесь важно обратить внимание на то, что под маргинализацией культуры подразумевается не достижения в области литературы и видов искусств, а падение общих поведенческих, морально-эстетических ценностей культуры поведения, воспитания и падение роли влияния науки, литературы и искусства на их формирование.
Сама культурная сфера обладает собственной спецификой «потолка рынка», являющегося следствием относительно низкой инвестиционной привлекательности и отсутствием отработанных технологий выхода на внешние рынки. Следствием этого, в свою очередь, является низкий уровень известности достижений культуры Казахстана в мире. Это и есть та самая «уязвимость культуры», о которой говорилось в интервью Е.Идрисова, касающегося деятельности Саши Б.Коэна.
Еще одним признаком маргинализации культуры является то, что казахстанская нация, урбанизируясь быстрыми темпами, не создала ощутимой имеющей собственное лицо «городской» культуры. Прежде всего, казахской, которая часто намеренно или стереотипно подменяется некоторыми национал-радикалами «аульской» культурой, что является ошибкой, поскольку большинство культурных жанров имеющих сельское происхождение самореализуется именно на городской почве.
Одним из следствий вышеописанного, вкупе с падением престижа и общего уровня жизни среди массовых деятелей культуры, является то, что эта сфера лишь эпизодически участвует в формировании национальной элиты. В большинстве своем деятели культуры успешно самореализуются только на почве «деклассирования», то есть перехода в другую сферу – на госслужбу или в бизнес, в том числе пополняя маргинальные слои «управленцев».
(2) Другой причиной депрофессионализации являются процессы миграции в обществе, обусловленные деклассированием бедного городского и сельского населения и превращением их в городских пауперов. Этот процесс обусловлен высоким спросом на временную (или периодичную) неквалифицированную рабочую силу, разовые платы за применение которой превосходят потенциальную постоянную зарплату. Сюда же можно отнести широкий слой самозанятых «шопников», состоящих, как правило, из деклассированных профессионалов рабочего класса, мелкой интеллигенции и инициативных выходцев из села.
Предыдущие два фактора достаточно типичны для переходных экономик и для общества с высоким уровнем урбанизации и миграции. Следующие же ниже факторы специфичны для казахстанской организации общества, исходящие из характера экономики и социально-политической структуры.
(3) Доминирование крупного сырьевого сектора и олигархическое строение элиты, сконцентрированной вокруг реального сектора экономики, привели к «потолку развития» частной инициативы. Сужение частной инициативы привело к ситуации, когда госслужба становится лучшим бизнесом. В результате произошло привнесение в государственное управление принципов и целей бизнеса, ориентированных не на исполнение служебных обязанностей, а на получение доходов. Более того, сращивание крупного бизнеса и госорганов (олигархия) превратилось из регулярного получения доходов от «улуса в кормление» (системная коррупция) в извлечение системной и воспроизводящейся прибыли (системная теневая экономика).
Такие процессы быстро подменили принципы государственной профпригодности кадров превращением госорганов в подконтрольные олигархиям филиалы бизнеса. Практически все руководящие позиции оцениваются с точки зрения организации коррупции, туда направляются персоны не имеющие профессиональных навыков, но обладающие полномочиями за сбор средств с госзакупок либо за протекционизм в пользу олигархий. Модели поведения и распределения влияния копируются у олигархий национального масштаба локальными организованными кланами. Сегодня фактически нет иной линии поведения на госслужбе, поскольку иначе нельзя ни работать, ни получить должность, ни продвинуться по карьере. Тем более, что рынок рекрутируемой неквалифицированной рабочей силы достаточно широк.
Непрофессиональный найм доминирует по всей вертикали не только государственного управления. Самое главное то, что он доминирует и в флагманских отраслях экономики, организованных в основном в национальные компании. В этих компаниях очевидна лишь «маскировочная» преданность национальным интересам.
(4) Вышеописанные факторы оказывают отрицательное системное влияние на рост и развитие малого и среднего бизнеса. Здесь можно обозначить два этапа. Первый – отчаянное апеллирование предпринимателей к центральной власти с просьбой защитить бизнес от произвола бюрократии. Второй – тотальный переход нормальных управленцев в бюрократическую систему с единственной целью осуществления протекционизма в свою пользу. Отсюда и ряд неудач властей по содействию предпринимателям в создании собственной реальной партии частных собственников. Во всех случаях, включая «Атамекен», эти организации состоят из «стремящихся на госслужбу, вопреки интересам госслужбы».
(5) Наиболее катастрофичной для государственной вертикали является разъедание государственнической идеологии в силовых структурах, поскольку служащие там связаны субординационной иерархией, понятиями чести мундира и преданности ведомству. Здесь гораздо сложнее процессы встраивания в систему или выпадения из нее. Несоизмеримо выше по сравнению с классическими бюрократами и административно-силовой ресурс, применение которого требует большей социальной ответственности не только за его применение, но и за последствия. Соответственно сложнее происходят процессы психологического раздвоения ориентиров между честью мундира и бизнес ориентированной идеологии. Проблемы силовых органов сегодня вышли на очевидный уровень, проявляющийся в бескомпромиссных межведомственных столкновениях, которые совершенно недвусмысленно трактуются обществом как борьбу за экономические сферы влияния.
Третье. Проблемы макроуровня.
В таких условиях системная коррупция является не просто тотальным воровством чиновников различного ранга, а проблемой макроэкономического характера, которой необходимо противопоставлять макроэкономические методы. Борьба с коррупцией, осуществляемая по двум направлениям – усилением карательной линии и повышением простого дохода обречена на неуспех перед системой воспроизводства прибыли и протекционизма. Коррупция проистекает из неспособности бизнес ориентированных чиновников осуществлять управление, ориентированное на государственные интересы. Всегда профнепригодность компенсируется продажей услуг по протекционизму и извлечению бизнес-дохода в обмен на безопасность должности. То есть коррупция является лишь одним из видимых проявлений кризиса государственного управления, в котором собственно управленческая неэффективность государственными механизмами содержит в себе более катастрофические риски системного характера.
В данном докладе не затрагиваются подробно проблемы тотального влияния олигархической организации общества на государственное управление.
Одной из ключевых проблем макроуровневого управления является нивелирование таких стратегических сегментов как институты развития. На сегодняшний день эти институты низведены до уровня правительства. В результате они оказались включенными не в стратегический «большой круг» экономического цикла (по периодам исполнения государственных программ, например «Транспортная стратегия 2015»), а в тактико-стратегический круг правительства, жизнедеятельность которого в среднем составляет 2-3 года. Соответственно мотивация их решений и подходов приобрела ориентиры, не выходящие за рамки правительственного цикла. Как следствие институтами развития в политике инвестиций акцент делается на текущее состояние доходности экономики, на загрузку государственного бюджета и рост обязательств правительства. Страдают такие стратегические программы как разработка принципов вхождения Казахстана в ВТО. Одновременно возникают вопросы дублирования институтами развития функций правительства по организации инвестиционных проектов, о котором уже неоднократно уже публично поднимались вопросы у представителей общественности и Парламента.
Как продемонстрировано в таблице № 1 «большим кругом» воспроизводства кризиса управления является процесс взаимовлияния: с одной стороны – принятия решений в высшем звене управления и исполнения их государственной вертикалью и обществом, с другой стороны – влияния низовых звеньев госуправления на качество принимаемых решений высшим звеном управления.
Факты доведения до абсурда позитивных идей политического руководства достаточно известны, в то же время необходимо изучить обратную сторону этого процесса – механизмы обратного воздействия.
Наиболее яркой иллюстрацией этих механизмов являются тенденции в публичной работе Совета Безопасности. Решения, выносимые на его заседания персонами ответственными за их разработку, напрямую свидетельствуют о кризисе оперативно-тактического, тактико-стратегического и собственно стратегического управления в государстве, по следующим причинам:
(1) Ситуация в которой Президент вынужден принимать решения по вопросам, относящимся к сфере полномочий ведомств, региональных властей, законодательной и судебной властей, следственных органов (к которым можно отнести вопросы о наказании коррупционных чиновников, зарплат нацкомпаний, законодательной инициативы по переносу игорных заведений и пр.), говорит о том, что эти тактические единицы управления не способны их принимать самостоятельно и, самое главное, безответственно апеллируют к Президенту – институту высшего политического арбитража.
(2) Никогда ранее Президент лично и публично не выносил непопулярного решения, имеющего прямое отношение к интересам своих непосредственных избирателей, как в вопросе о праворульных машинах. 140 тыс. собственников праворульного транспорта, умноженные на членов семей, представляют собой классический мещанский городской слой, представляющий часть ядерного электората Президента. Мера эта абсолютно оправдана с точки зрения целесообразности, но нетипичность ее принятия порождает ощущение, что главу государства сознательно направили именно на такой безапелляционный шаг, лишенный всякого маневра перед общественным мнением. Однако эта сознательность, возможно, строится не столько на злонамеренности, сколько на неумении взять на себя положенную ответственность.
Нарушается главная политическая характеристика президентского статуса – верховного политического арбитража и стратегического уровня ответственности в управлении государством. Таким образом происходит возврат круговорота от маргинализированного общества к высшим звеньям управления.
Однако, главной кризисной проблемой управленческого макроуровня является фактическое отсутствие органов стратегического управления, прогнозирования, анализа и разработки векторов развития. На сегодняшний день деятельность главного стратегического уровня – Администрации Президента – практически посвящена тактическому управлению, дублированию функций и полномочий правительства, безапелляционному вмешательству во вторые, третьи и четвертые уровни управления государственной вертикалью. Наиболее негативным является то, что чаще всего вмешательство проводится не на основе продвижения каких-либо стратегических программ, а исключительно под прикрытием «личного мнения Президента», переспросить о котором у этих уровней нет никакой возможности. В основе этого стремления принять участие в тактическом управлении лежит не столько ответственность за поручения главы государства, сколько стремление принять участие в государственном бизнесе.
- О единстве комплекса экономика-идеология-культура. Необходимость внедрения комплексной доктрины.
Вышеописанные факторы свидетельствуют о том, что проблема кризиса управления носит фундаментальный и системный характер, обладает способностью воспроизводства негативных явлений на всех звеньях управления. Особую важность преодоление кризиса приобретает в период проведения крупномасштабной политической и административной реформ. При игнорировании вопроса разрыва кризисного круговорота, данные реформы рискуют приобрести механический характер без изменения сути общественных отношений в экономическом базисе и в политической надстройке казахстанского общества.
Налицо необходимость принятия комплексной макроуровневой доктрины, единовременно направленной на все звенья воспроизводства негативных общественных явлений кризиса управления, быстрого внедрения необходимого институционального инструментария, четкого определения механизмов активизации позитивного человеческого ресурса общества.
Итогом реализации такой доктрины должно стать фактическое построение системы «капитализма общественного блага», основы которого должны быть заложены в кратчайшие сроки и внедрены в общественное сознание. В противном случае кризисные явления будут подтачиваться ежедневно возникающими техногенно и социогенными чрезвычайными ситуациями, выносящими на публичный суд непрофессионализм сегментов госуправления.
Для этого представляется необходимым осуществить следующие шаги:
- Решительное идеологическое переориентирование Администрации Президента в сторону стратегического управления. Для этого необходимо при ней создать Агентство по стратегическому развитию. Вокруг Агентства необходимо создать единый комплекс стратегического планирования, анализа и прогноза, в частности, путем переподчинения ему некоторых существующих институтов развития, деятельность которых должна быть соответственно переформатирована по необходимости.
- Незамедлительно приступить к разработке и внедрению комплексной доктрины, подготовке механизмов ее реализации.
- Синхронизировать с реализацией комплексной доктрины периоды проведения политической и административной реформ, не нарушая взятых публичных обязательств.
- Требования к комплексной доктрине.
Условное и закрытое название доктрины – «Казахстанский прорыв». Идеология «прорыва» в основном необходима для реализации культурно-гуманитарной части программы, о которой будет сказано ниже.
Программа прорыва основана на трех основных направлениях и нескольких поднаправлениях.
Направления:
1-е направление. Экономический Мегапроект. Задачей данного направления является создание нового флагманского сектора экономики Казахстана, которое повлечет за собой мультипликативный социально-экономический и политический эффект. Целью же является формирование вокруг него за счет этого мультипликативного эффекта «капитализма общественного блага».
Особую важность в мегапроекте должны играть:
- широкое привлечение национального капитала второго эшелона. Это должно кардинальным образом отвлечь не слишком широкие его ряды от желания пересмотра результатов первоначального накопления капитала;
- обеспечение доступа широких слоев населения к приобретению ценных бумаг флагманских предприятий, создаваемых по мере реализации мегапроекта;
- высокая социальная отдача от иностранных инвесторов в реализации адресных и целевых социальных программ, направленных на улучшение качества жизни граждан Казахстана.
Такими характеристиками обладает прилагаемая концепция реализации мегапроекта «АзияМегаТранс».
2-е направление. Культурный прорыв. Данный проект направлен на кардинальное изменение ситуации в цикле, описанном в таблице № 1. Но, помимо задач стратегического изменения общего культурного фона в обществе, проект призван решить задачу использования внутреннего творческого потенциала страны для преодоления «уязвимости культуры» за рубежом.
Проект создаст дополнительную динамику развития культурного слоя с целью (1) ее достойного интегрирования в формирование элиты – это необходимо для создания альтернативного госкарьере пути достижения успеха; (2) выхода деятелей культуры из условий «узости казахстанского рынка»; (3) для реализации лидерского статуса Казахстана в Центральной Азии.
Третий пункт нуждается в дополнительном разъяснении. Как известно лидерский статус реализуется не только в экономической сфере. Известно, что в 60-е годы руководство ЦРУ обратилось к Президенту США Дж.Кеннеди со следующей доктриной. США к тому времени стали безусловным экономическим и военным лидером капиталистического мира. Однако их конкурентоспособность значительно подрывалась тем, что Америка не доминировала в культурной области, центром которой являлась Европа. Следовательно, под сомнением была и идеологическая доминанта США. Была предложена секретная стратегия как по двум направлениям – созданию культурного климата в стране (разработка новых творческих концепций, поп-культура, студии, галереи, кино, выставки, шоу бизнес) и по экспансии идеологии экспорта американских ценностей по всему миру. В результате реализации данной программы возникли такие явления как поп-арт (Э.Уорхолл), окончательное доминирование Голливуда в кинематографе, самый организованный шоу –бизнес и проч.
Аналогичная программа была осуществлена в Англии в те же 60-е годы. В то время в мире доминировала американская музыкальная культура джаза и рок-н-ролла. Согласно Дж.Коулеману британские власти осуществили комплексную программу по созданию брэндов в сфере рок музыки, какими являлись Биттлз и Роллинг стоунз, а впоследствии и вся британская рок культура. Особое значение в реализации данной программы британские власти придавали созданию имиджа буржуазной мечты для жителей депрессивных с культурной точки зрения районов страны (поэтому все представители рок культуры выходцы оттуда).
Не случайно это были 60-годы – период роста коммунистических, социалистических, хиппи и просто бунтарских настроений в буржуазном обществе. В эти же годы движениям хиппи и прочих бунтарей было противопоставлено тщательно спланированное и организованное движение «яппи» (Янг профешшионалз), которое впоследствии, в 70-е годы, переросло в «революцию менеджеров», которую на Западе считают одним из самых ярких демонстраций устойчивости и демократичности капитализма.
В связи с этим Казахстану с одной стороны необходимо создание нескольких узнаваемых культурных брэндов и течений мирового звучания, с другой – плановое и целевое формирование собственного городского культурного климата, через который будут самореализовываться не только казахстанские представители творчества, но и Центральной Азии. Доктрина культурного прорыва должна задать накапливающуюся протестную энергию в сторону вектора международного успеха. Параллельно эта энергия будет использована для продвижения имиджа Казахстана, как «азиатской Европы» в сердце ЦА.
3-е направление. Гуманитарные науки. Данное направление направлено на системную организацию наук мировоззренческого характера – истории, политэкономии, филологии, археологии, историографии. Основной задачей является создание комплексного и канонического с точки зрения науки видения исторического прошлого нации. На сегодняшний день историческая наука крайне идеологизирована псевдонаучными утверждениями, часто носящими характер нарушения канонов исторической науки. В то же время мировая наука находит достаточно много исторических подтверждений самым смелым гипотезам, способным укрепить исторический имидж казахов. В частности, исследования крови д-ра Спенсера о том, что казахи являются носителями ДНК, неизменного в течении 40 тыс. лет и являющегося прародителем ДНК всех европейских народов и коренных американцев. Исследования английских филологов об идентичности английского (король Артур и рыцари) и казахского эпосов (Алаша-хан и батыры), прямо делающих вывод о том, что эпос был привнесен из Степи и тп.
В Казахстане практически сведены к нулю исследования историографии, в то время как в мировых библиотеках содержатся массы древних рукописей, не востребованных казахскими учеными! Не переведенными с различных языков и не изученными. В то время как помимо Гумилева только у русских ученых содержатся уверенные упоминания о казахах в 11-м и 12-м веках (Соловьев).
Практически сегодня знание о культуре Великой Степи основывается на тех канонических исследованиях, которые были осуществлены при Советском Союзе и носят идеологизированный характер. Попытки изменения взглядов на историю с помощью идеологов не достигает успеха в силу очевидной ангажированности.
В то же время история Центральной Азии также не представляет собой единого исторического поля, поскольку национальные науки закрылись в рамках границ и внутригосударственной пропаганды.
Иными словами, для реального регионального лидерства нам необходимо не только экономическое, но и культурное и мировоззренческое доминирование. Этого можно достичь только с помощью латентно разработанной и реализуемой специальной доктрины имперского характера.
2-я и 3-я программы направлены на преодоление фундаментальных основ кризисных явлений нашего общества. Они разделены между собой в силу различия специфик. В то же время широту комплексной доктрины раскрывает ряд поднаправлений, являющихся производными из 3-х базовых программ. Включение подпрограмм в основные направления говорят о том, где формируются базовые цели и задачи и с реализацией какой стратегией необходимо синхронизировать их осуществление.
Подпрограммы :
- Роль президентской партии в кадровой подготовке;
- Ориентирование системы государственного высшего образования;
- Использование современных показателей в оценке развития общества и успешности государственных программ;
- Создание Выставки Национального стандарта в г.Астана;
- Региональные программы по ликвидации отчуждения населения от достижений общества. Новые принципы адресного информационного обеспечения различных слоев населения;
- Идеологическая подготовка статс-секретарей. Принципы отбора и карьерного продвижения;
- Социальный статус работников здравоохранения и пр.
Разработка подпрограмм ставится в план работы новых институтов стратегического развития.
______________________________
Сложность и многоаспектность проблем кризиса управления в стране не позволяют подробно осветить функционирование негативных механизмов и их влияние на макропроцессы. Очевидно и то, что в рамки доклада трудно поместить все детали комплексной доктрины прорыва в области преодоления этого кризиса. В докладе не отражены также объективные препятствия и риски, которые ожидают реализацию комплексной доктрины на практике. В то же время, здесь осуществлена попытка увидеть основную проблематику на стратегическом макроуровне в контексте главного содержания исторического периода.
(2008г.)
За 10 лет, прошедших с момента принятия Закона о национальной безопасности Республики Казахстан (1998г.), произошли существенные изменения в иерархии угроз национальной безопасности. Это связано с усилением динамики внешне- и внутриполитических процессов, послуживших причиной этих изменений.
Во многих случаях речь идет о смене качественных и вероятностных характеристик, а также о тенденциях к расширению и усилению влияния некоторых социально-экономических трендов на дальнейшее развитие общеполитической ситуации в стране.
Основным направлением внешнеполитического влияния на ситуацию в Казахстане является ускорение процессов глобализации в мире. Интеграция страны в мировые рынки, повышение ее международного авторитета (например, председательство в ОБСЕ) одновременно усиливает зависимость от угроз, формирующихся за рубежом. Это касается как проявлений международных кризисов экономического характера (ипотечный кризис, продовольственная проблема и т.п.), так и политического (кризисы суверенитетов Сербии, Грузии, Азербайджана, Израиля, рост противостояния мировых центров силы, проблемы международного терроризма, возникновение новых военных конфликтов и пр.).
Проблематика внешнеполитического поля в целом продолжает характеризоваться политикой «навязывания ролей» – в мировом распределении труда, в «экономической специализации», в определении векторов политики, в определении уровня геополитического статуса (причисление к группам стран, отстающих от мировых флагманов по различным параметрам), в формировании международного имиджа и в привнесении традиций общества потребления. Фактически с такой политикой Казахстан сталкивается с самого начала своего независимого развития. В то же время, процессы демократизации и открытости в нашей стране одновременно формируют и каналы уязвимости. Это, к сожалению, неизбежно приводит к усилению тенденций навязывания чуждой воли во внутриполитических процессах. Наиболее наглядно эти тенденции продемонстрировал период вспышки «цветных переворотов» в ряде стран.
Несмотря на то, что технология «цветной волны» в Центральной Азии разбилась у границ Казахстана в 2005-м году, динамика насаждения привнесенных ценностей в ущерб национальным интересам продолжает усиливаться. Негативные внешние факторы стремятся вытеснить государственные институты Казахстана из процесса целенаправленного формирования собственной национальной экономики, национального образования и здравоохранения, науки и культуры.
Глобализация ограничивает возможности правительств отдельных стран для самостоятельного решения своих проблем. Прежде всего потому, что подрывает ментальную основу успешности любого политического строя, ориентированного на интересы собственной нации – тем, что размывает патриотизм и государственническую идеологию, как стержневые факторы мотивации государственных управленцев, бизнесменов и граждан, ориентированных на инициативу успешного самовыражения.
Одновременно с международными трендами происходит значительное изменение процессов отечественного происхождения, влияющих на динамику рисков и угроз в стране. Деградация отечественного образования, дополненная снижением жизненного уровня преподавателей, предельно снизила возможность подготовки управленческой элиты, ориентированной на национальные интересы. Произошла широкая депрофессионализация активных слоев населения, что формирует негативный фон для эффективного управления в стране. В результате непрофессионализм приводит к подмене управления, ориентированного на результат, PR управлением, ориентированным лишь на внешний эффект, а чаще – на сознательное введение в заблуждение общества и руководства страны в узких частных интересах.
К сожалению, депрофессионализация коснулась не только управленческого слоя, экспертов и специалистов различного профиля. Этот процесс и его фундаментальные причины привели к маргинализации культурного социального слоя, сошедшего с «творческих рельсов» и с функций формирования морально-этических ценностей на эксплуатацию проблем общества в личных политических интересах. Кризис национальной идентичности не приобрел до сих пор взрывного эффекта только благодаря последовательной политической воли руководства страны. Однако по мере того, как общая социальная деградация, архаизация общественных отношений и разрушение социальной ткани стали затягивать в свою воронку государственные и политические институты, усилились риски утери успешной реализации этой политической воли. Они обусловлены тем, что элитные слои общества часто оказываются неспособны не только проводить работу по формированию политической культуры, общественного мнения, политической социализации населения, но и, наоборот, скорее склонны опускаться до уровня самых примитивных настроений маргинального сознания.
Другим внутриполитическим трендом, служащим субстантивным фоном для развития угроз, является качественное изменение общественного сознания. До 2005 года общественное мнение характеризовалось его формированием «сверху» – через политические и общественные институты власти и оппозиции, группы влияния, аналитические центры, через лидеров мнений, средства массовой информации. В дальнейшем и по сегодняшний день наблюдается устойчивая тенденция к форматированию общественного мнения исходя из интересов различных широких социальных групп.
Выборы 2007-го года выявили несостоятельность, а часто и политическое банкротство многих политических фигур, ранее систематизировавших то или иное направление общественной мысли.
Прежде всего, это касается оппозиции, которая утратила контроль над массовыми протестными настроениями. При позитивности этого фактора для власти, это, тем не менее, имеет и негативное значение для общего политического поля, поскольку, теряя старых лидеров, массовая протестность приступает к генерации новых.
Пока говорить о генерации новых лидеров рано, но важно следующее – разочаровавшись в оппозиции, как к части элиты, протестность приобретает все более отчетливый антиэлитный в целом характер – не стремясь различать элиту по границе лояльности к власти. Основным показателем этих тенденций является то, что критика существующего положения охватила большинство публичных политических площадок и средств массовой информации. В результате нивелировалось большинство публичных исследовательских центров, журналистов-аналитиков и политологов, поскольку в совокупности объем анализа и поиска идей по всему полю открытых ресурсов, значительно опережает любой отдельный исследовательский центр – не имеет значения, принадлежащий власти или ее оппонентам. В такой ситуации низкие показатели доверия к официальным каналам информации означают утрату эффективности в моделировании политических процессов и формировании общественного мнения. При этом, разноформатные группы социальной протестности (дольщики, землезахватчики, рабочие крупных предприятий, бюджетники и пр.) вплотную подошли к необходимости самоорганизации «снизу».
Состояние общих настроений широких слоев населения отчетливо иллюстрируется тотальным морально-этическим неприятием методов, продемонстрированных Р.Алиевым. Маргинальный интерес к подробностям компромата, выбрасывающегося из Австрии, нисколько не прибавил, а скорее полностью обрушил репутацию бывшего посла в глазах общественности. Но, на фоне этого, усилил антиэлитные настроения граждан Казахстана.
При устойчивости антиэлитного тренда, развивающегося в обществе, уровень его самоорганизации объективно низок и находится в зачаточном состоянии. Однако быстрая динамика роста этой тенденции говорит о настоятельной необходимости принятия срочных мер по предотвращению ее развития в негативном для политического строя направлении.
Очевидно, что внешнеполитические процессы, объединяясь с проблемами внутреннего состояния общественно-политического развития Казахстана, обладают значительным потенциалом к усилению мультипликативного эффекта от совместного воздействия. Это сильно актуализирует необходимость своевременного анализа угроз и рисков в новых условиях, выработки комплекса стратегических мер по использованию ресурсов политического строя с целью их эффективного преодоления.
Таким образом, логика представленного документа выстроена с учетом следующих подходов:
во-первых, произошла существенная трансформация в иерархии угроз национальной безопасности, связанная с высокой динамикой внешне- и внутриполитических трендов;
во-вторых, каждая конкретная угроза зиждется на макропроцессах, имеющих субстантивный (повсеместный) характер, в которых внешнеполитическое влияние и внутренние тенденции тесно переплетены;
в-третьих, из всего перечня угроз в адрес классической триады «государство-общество-личность» для Казахстана наибольшие вызовы сегодня содержат те, которые адресованы государству, его структурам и способности эффективно выполнять свои функции, касающиеся национальной безопасности страны.
В таблицах Приложения № 1 представлено подробное описание современных угроз, обладающих высокой степенью актуальности в настоящее время. Однако это не весь спектр проблем современности. Внимание сосредоточено на тех из них, которые претерпевают не только качественные изменения, но и изменили степень своего возможного негативного воздействия на общество Казахстана и на его геополитическую силу на международной арене.
Разделы данной работы больше акцентируют внимание на блоке угроз в целом, а также на отдельных аспектах, имеющих особую важность в выборе направлений дальнейшей деятельности.
- Внешние угрозы
Новейший период истории, а именно, начиная с сентября 2001 года, характеризуется выходом на первый план новых угроз, обладающих принципиальным отличием от тех, что имели место во время становления принципов внешнеполитической деятельности нашего государства. Одним из самых фундаментальных из них является многовекторность. В условиях усиления противостояния центров силы на мировой арене этот принцип сталкивается с дополнительными испытаниями на прочность. Провозглашение США возникновения однополярного мира является представлением желаемого в качестве действительного, особенно на фоне укрепления сверхдержавной риторики в России и быстро растущих амбиций КНР. При том, что сегодня альтернативы участию в ОДКБ и ШОС, являющихся инструментами обеспечения региональной безопасности, объективно не существует – участие в военно-политических блоках, где доминируют Россия и Китай, несет в себе угрозу значительного сужения поля для политического маневрирования. Это влечет за собой высокую вероятность утраты возможности проводить многовекторную политику в отношениях с основными игроками международной политики.
Усиление этой вероятности происходит во многом из-за значительного ослабления международного права как инструмента защиты суверенитетов стран на основе существующих государственных границ – речь идет о факторе Косово.
Сам конфликт в Сербии, скорее всего, перейдет в вялотекущую стадию из-за приоритетности для этой страны интеграции в единое европейское пространство. Однако «эффект домино», подержанный реакцией России по стимулированию сепаратизма в Грузии, уже стремительно распространяется в мире. Цепная реакция катализируется усиленной деятельностью Запада по дискредитации Олимпиады в Китае через Тибет и СУАР. Национальные интересы Казахстана, как унитарного государства требуют беспрекословного порицания усиления сепаратизма в мире, а это влечет за собой необходимость чёткой поддержки позиции одной из сторон в столкновении интересов.
К этой же категории факторов сужения политического маневра относится и рост напряженности между Россией и Украиной, поскольку вопрос касается расширения НАТО на восток и конфликта между участниками блоков, в которые входит Казахстан (СНГ, ЕврАзЭС). В вопросе председательства в ОБСЕ Казахстан оказывается, с одной стороны, под давлением на нашу страну со стороны Запада через ценности этой организации, с другой – под давлением Москвы, стремящейся нивелировать влияние этой структуры на свою внутреннюю политику.
Интеграционные процессы регионального характера также переживают столкновение с вызовами нового типа. В большинстве своем они связаны с объективным стремлением Казахстана выступать в качестве лидера и самостоятельного интегратора в ЦА. Помимо традиционного ревностного отношения к лидерству нашей страны (Узбекистан) политические режимы региона находятся под доминирующим влиянием центров силы. Геополитические лидеры предпочитают непосредственно влиять на каждое государство в отдельности, нежели иметь дело с качественно усилившимся блоком, объединенным на основе единой платформы общерегиональных интересов.
В таких условиях значительно возрастают требования к ведомствам, отвечающим за внешнеполитическую деятельность и за способность государства противостоять внешним вызовам (МИД, внешняя разведка). Сохранение принципа многовекторности потребует от них высокой конкурентоспособности в сфере анализа и прогнозирования трендов международной политики, способности играть на опережение открытой реализации угроз и не допускать прямое и косвенное навязывание внешнеполитических действий Казахстану.
Но особенное значение имеет не столько эффективность «внешников», сколько способность всей структуры государственного управления противостоять инфильтрации внешних негативных факторов влияния на внутриполитическую ситуацию в Казахстане.
Это связано с тем, что глобализация значительно увеличила эффективность международных сетевых структур как криминального характера, так и специально созданных для подрыва политической стабильности в той или иной стране. Системе отечественной безопасности противостоят значительный опыт и практически неограниченные ресурсы международных сетей по подрыву национальных интересов страны.
С этой точки зрения в следующих разделах рассматриваются проблемы, отражающие конкурентность системы казахстанского госуправления перед вызовами внешнего мира.
- Угрозы в экономической сфере
Самой определяющей комплексной угрозой в экономическом секторе, который традиционно отличался в Казахстане качеством долгосрочного планирования, является утеря именно стратегического подхода в системе принятия решений в экономике. Принцип фундаментального анализа, прогноза и контроля над достижением реальных результатов сменился рутинизацией и спорадическими ситуативными решениями. Перед политическим строем встала угроза невыполнения собственных программ и реализации своих приоритетов.
Особенно ярко это проявилось при столкновении системы с имеющим внешнее происхождение т.н. «ипотечным кризисом» и его последствиями. На деле оказалось, что отечественные эксперты основывались в своих прогнозах лишь на тенденциях роста цен на ключевые виды сырья, забыв, что периодическое возникновение кризисов заложено в сути капиталистического способа производства (неважно, что ипотечный кризис не является классической формой кризиса перепроизводства). В результате первое значительное столкновение с системным вызовом привело к растерянности и параличу правительства, тактике импульсивных мер. Эти меры встречают все большее недовольство населения, поскольку мультипликативный эффект от резкой остановки развития таких ключевых отраслей, как строительство и банковский сектор, оказался непредвиденным и продолжает воспроизводиться.
Отчетливо проявилось то, что Казахстан, всегда отличавшийся от соседей высокими темпами приватизации, в итоге оказался страной с экономикой монополий и узким рынком реальной конкуренции. Рыночные механизмы содержат в себе значительный потенциал к «самовытаскиванию» из кризиса. Такого потенциала в стране не оказалось. Напротив, сетевая аффилированность малого и среднего бизнеса по отношению к крупным финансово-промышленным группам моментально распространила негативные факторы по всем сферам национальной экономики.
Именно в условиях узости конкурентного рынка и, следовательно, значительного возрастания регулирующей роли государства, происходит отодвигание на задний план вопроса о контроле за исполнением ключевых государственных и правительственных программ.
Особенное значение мониторинг их результативности и проблематики приобретает в текущем году, когда предстоит разработка трехлетнего бюджета, ориентированного на достижение конкретных результатов. В концепции БОР ключевое значение имеет именно прогнозирование функционирования всех отраслей и видение экономики, как части общего социально-политического развития страны. Иначе вынужденная ежегодная корректировка бюджета нивелирует смысл трехлетнего стратегического планирования.
На фоне того, что ООН прогнозирует выход 40 стран на грань голода, комплекс проблем в сельском хозяйстве повышает значение продовольственной безопасности страны. Отсутствие должного контроля над этим фактором привело к значительной зависимости внутреннего рынка продовольствия от импорта основных продуктов питания.
Исследования общественного мнения демонстрируют то, что рост цен на них (а также на весь пакет товаров первой необходимости) для казахстанцев стал проблемой № 1 и вопросом выбора стратегии выживания, характерной для 1990-х годов. Население вновь начало ориентироваться на решение не перспективных, долгосрочных, а жизненных, сиюминутных проблем. Таким образом, смена акцента в повседневной проблематике от вопросов общественного свойства к вопросам индивидуального характера позволяет говорить о снижении уровня социальной ответственности и кризисе доверия к власти. Поэтому политическое руководство рискует повсеместно сталкиваться с широким абсентеизмом в тех вопросах, когда потребуется высокая концентрация национальных человеческих ресурсов.
- Угрозы в социальной сфере.
Человеческий ресурс – основной потенциал нации, способный преодолевать кризисные явления, формирующий иммунитет к внешнему влиянию, формирующий стабильную социальную опору любого политического строя. Особенное значение наличие качественного человеческого ресурса играет тогда, когда нация ставит перед собой задачи прорывного характера. Подобной задачей является вхождение Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных обществ мира. Качество жизни казахстанцев выражается в двух ипостасях – как средство достижения успеха прорывных политических доктрин, так и их основная цель. Исходя из этого, комплекс угроз качеству жизни имеет фундаментальный характер и сложный – в силу своей значительной диверсификации.
Социальная стабильность – это устойчивое состояние социальной системы, которое позволяет ей эффективно функционировать и развиваться, сохраняя свою сущность, несмотря на внешнее и внутреннее воздействие (угрозы).
С начала 2000-х годов, в Казахстане наблюдается существенный экономический подъем, прямым следствием которого становится улучшение благосостояние населения.
Замеры общественного мнения 2004 года зафиксировали одни из самых высоких среди стран СНГ показателей социального самочувствия населения. Результаты общереспубликанских опросов 2005-2006 годов подтверждали этот тренд.
Тем не менее, уже по результатам замеров общественного мнения в апреле 2008 года в качестве одной из реальных угроз в среднесрочной перспективе может стать ухудшение социальных настроений граждан страны. Как результат, основные индикаторы социального самочувствия, – адаптированность к переменам, уровень материального положения, самооценка перспектив на будущее, – изменяются со знаком «минус».
На сегодняшний день самооценка жизненных перспектив на будущее у населения в два раза ниже уровня удовлетворенности жизнью.
По результатам исследований, заметно увеличилась доля тех, кто в качестве желаемого места жительства останавливает свой выбор не на какой-то отдельно взятой стране, а на объединении стран – СНГ; Союз РФ, Украины, Белоруссии и Казахстана; ЕС. Апелляция к таким более крупным образованиям, как интеграционные союзы, при низком уровне эмиграционных настроений внутри страны, можно рассматривать как своеобразный «вотум недоверия» населения страны суверенной власти. Государство в качестве патрона, гаранта социальной стабильности, теряет свой авторитет и отодвигается на второй план. Это приводит к тому, что гражданин страны психологически противопоставляет себя любым системам, генерируемым собственным государством – это касается, прежде всего, классических социальных систем – здравоохранения и образования. В течение нескольких лет проблематика этих двух сфер находится на верхних позициях отрицательной оценки со стороны населения Казахстана. Такое отношение подкрепляется еще тем, что эти системы пронизаны основной угрозой общества – повсеместным мздоимством и коррупцией.
В социальном блоке комплексным трендом является обострение несоответствия между количественными показателями (финансирование, рост числа материальных объектов системы, количество принятых новых законов, некоторое повышение материального статуса работников образования) и реальными качественными параметрами системы образования, воспитания и здравоохранения. Например, резкое увеличение числа вузов привело не к росту профессиональной квалификации и гражданской культуры выпускников, а к их упадку. К сожалению, здесь страна сталкивается с набирающей силу реализацией угрозы «роста без развития».
Важнейшей составляющей социального сектора является информационная сфера. Информационный обмен в формате «государство-общество» сталкивается с серьезными помехами и искажениями на уровне идей, идеологий, ценностей, мифов, норм, правил и ритуалов. Растет разрыв между модернизаторским зарядом стратегии, предлагаемой Президентом, и архаично-патерналистскими запросами и ожиданиями общества.
Фактическое отсутствие системы обратной связи привело к тому, что государственные и политические институты не только не способны выступать эффективными проводниками президентских идей, но и сами затягиваются в воронку социальной деградации. Они склонны скорее идти на поводу у настроений и запросов, формирующихся в маргинальных слоях общества. В результате разрыв, проходящий по линии «государство-общество» приобретает угрожающий характер.
- Угрозы в технологической и экологической сферах
Основные угрозы технологических и экологических сфер концентрируются преимущественно в зонах промышленного производства.
Главная предпосылка их возникновения – это высокая степень износа основных фондов в экономике страны. В целом по стране ее показатель приближается к 40-50 % в зависимости от региона. Особенную важность имеет состояние систем ЖКХ в городах страны. В наиболее успешном городском хозяйстве Алматы, например, износ водопроводных труб достигает 70%, в год происходит более 3000 аварий, но ремонтируется не более 6 км. труб (снижение в 10 раз по сравнению с прежними показателями). Основные производственные фонды Горводоканала не обновлялись на протяжении последних 15 лет, а очистные сооружения – с 1940-х годов.
Второй по значимости предпосылкой является снижение уровня квалификации обслуживающего персонала и прямое пренебрежение правилами техники безопасности, отмеченные, в частности, в ходе расследования аварий на угольных шахтах Караганды.
Опасность возникновения техногенных катастроф существовала всегда, однако на сегодняшний день динамика изменения этой угрозы отягощается трансформацией ее в широкий политический резонанс и в рост активности самоорганизации протестности «снизу», о котором писалось выше. На больших предприятиях это уже приводит к росту численности и авторитета независимых профсоюзов, как наиболее типичной формы этой самоорганизации.
- Угрозы во внутриполитической сфере. Проблемы макроуровня.
Сегодня все чаще обсуждается тема общего кризиса управления в стране, который связывают, прежде всего, с неэффективностью деятельности государственного аппарата. В общем, в улучшении качества оказания государственных услуг населению существует определенная положительная динамика. Однако главным показателем кризиса управления является объективный провал административной реформы, осуществляемой правительством. Это говорит о том, что набирает силу отставание уровня руководителей и сотрудников от тех критериев, которыми руководствовался Глава государства в процессе постановки задач государственному сектору.
Политическая причина роста данной угрозы связана с тем, что государственная система управления рассегментирована по своей вертикали интересами групп влияния. В результате возникла подмена реализации политики государства политическими и экономическими программами олигархий, что привнесло в государственное управление принципы и цели бизнеса, ориентированные не на исполнение служебных обязанностей, а на получение доходов. Практически вся система принятия решений в ведомствах и государственных холдингах основана на интересах лоббистов финансово-промышленных групп. А решение на занятие руководящих должностей осуществляется не по принципу профессионального соответствия, а по лояльности группе влияния. Непрофессиональный найм доминирует практически повсеместно.
Если сюда добавить традиционное кумовство и принцип подбора по национальности, то объемы непотизма становятся весьма впечатляющими.
Социальные причины неэффективности госаппарата коренятся в депрофессионализации, о которой писалось выше и коррумпированностью госорганов. Особенно это касается правоохранительных ведомств.
Система подготовки кадров для государственной службы не превратилась в сбалансированный механизм в силу того, что она не учитывает многие специфические аспекты социального характера.
Наиболее ярко это можно наблюдать на примере проблем программы «Болашак». Эти проблемы связаны с прививаемой выпускникам западной ориентации исключительно на личный успех, а не на реализацию государственных ценностей. Выпускники зарубежных вузов в основном используют понятийный аппарат из хозяйственной практики развитых стран Запада и проповедуют в целом прозападную ориентацию в плане морально-нравственных и общественно-политических ценностей.
Тем самым, «Болашак» стал способом реализации не столько государственной потребности в эффективных управленцах, сколько формой реализации личных интересов участников этой программы. Сопутствующим моментом, четко осознаваемым в элите и в обществе, стало снижение чувства ответственности «болашаковцев» перед обществом, усугубляемое отсутствием патриотизма.
Эти обстоятельства привели к тому, что преимущества более качественного образования стимулируют выпускников программы: а) к поиску возможностей самореализации в более близких им коммерческих структурах, б) к встраиванию в группы влияния, где мотивация выгоды всегда выдвигается на первый план.
В то же время потребность национальной экономики в специалистах, обладающих знаниями современных технологий стратегического менеджмента, продолжает оставаться высокой. Следовательно, назревает необходимость переориентирования программы «Болашак» на целевой спрос на конкретных специалистов с системой их государственного распределения после учебы, а также перемещения акцента на переподготовку мировоззренчески более зрелых людей с высшим образованием путем повышения квалификации, учебы в аспирантуре и на программах целевого перепрофилирования.
В ряду общеполитических угроз усиливаются риски проявления экстремистских форм политической борьбы в сфере столкновения клановых и олигархических интересов. Фактически в стране уже длительное время наблюдается всплеск использования «грязных» политтехнологий, направленных на рейдерство сфер влияния и даже государственных должностей. В этих технологиях вовсю используются средства массовой информации, практически тотально маргинализировавшие свою редакторскую политику в сторону чисто материальной выгоды. В условиях высоких требований к этическим нормам поведения, государственные служащие и руководители различных уровней часто оказываются беззащитными перед «грязным пиаром». Редко кому из служащих среднего ранга удается защитить свое достоинство в суде.
Появление необоснованных обвинений тесно переплетается с информацией о реальных коррупционных разоблачениях, но у населения формируется в целом негативный образ госслужащего, постепенно дискредитирующий и деморализующий госаппарат.
Другими предпосылками политического экстремизма являются: рост уровня расслоения населения по социальному, этническому и религиозному признаку; низкая эффективность деятельности органов безопасности страны, сращивание их с криминальными структурами; самоуправство и безнаказанность высшего чиновничьего аппарата.
В Казахстане уже сейчас процессы социальной дифференциации достигли своего критического уровня. Если десять лет назад соотношение минимальных и максимальных доходов крайних, так называемых децильных, групп населения (коэффициент Джини) составляло 1 к 4, то сегодня этот показатель составляет 1 к 10. В результате идеологической разрозненности, общего морального упадка и нерешенности социальных проблем казахстанское общество становится уязвимым перед негативными воздействиями со стороны заинтересованных в дестабилизации сил.
Феномен политизации религиозности характеризуется главным образом тем, что большинство населения Казахстана являются неофитами (новообращенными в веру), в силу господства атеистической коммунистической идеологии в прошлом. Этим во многом объясняются религиозные заблуждения, подверженность влиянию асоциальных сект, рост популярности оккультизма. Этот фактор усиливается слабостью контроля ДУМК и Православной епархии над сетями религиозных конфессий – культовых сооружений и храмов, как мест сбора верующих. В большей степени это касается мусульманского духовенства, поскольку суннитский ислам отрицает клерикальную иерархию. Часто исламским духовенством используется подмена понятий «профессиональное образование» и «знание» понятием «вера», подразумевающим достаточность знания постулатов ислама для успешного развития социальной личности. Молодежь, воспринимающая подобное представление действительности, маргинализируется и пополняет протестные ряды городских пауперов, зараженных этно-религиозной нетерпимостью и экстремизмом. Такая ситуация неизбежно приводит к повсеместному проникновению иностранных экстремистских доктрин псевдо-ислама и захват ими конфессиональных сетей в Казахстане.
Наконец, основная аккумулированная угроза внутриполитической сферы сегодняшнего дня – это риски десакрализации политической фигуры и имиджа Президента. Десакрализация характеризуется как кардинальное изменение понимания исторической роли политического лидера в мировоззрении граждан страны. Общество продолжает признавать силу политической воли и административного ресурса Главы государства, но исчезает традиционный для азиатского общества гипертрофированный пиетет к Лидеру, как нравственному источнику справедливости.
Причинами этого явления выступает ряд факторов:
(1) ряд скандалов на властном Олимпе, связанных с окружением и семьей Президента (Р.Алиев); (2) экстраполяция всей ответственности за негативные явления общества на личность Главы государства, в том числе общая антивластная протесность; (3) «перегруженность» фигуры Лидера второстепенными, с точки зрения исторической ответственности, функциями и рутинными обязанностями уровня не выше внутриведомственного; (4) сознательное вовлечение Лидера окружением во внутриэлитные конфликты, в результате чего происходит эрозия позиции арбитра, стоящего «над схваткой».
Последствиями полной реализации такой угрозы является утеря «ядерной» массовой социальной опоры политического строя, центром которой является Президент. В условиях неэффективности государственного аппарата задача восстановления (удержания) необходимой степени сакральности фигуры Лидера приобретает самостоятельное и решающее значение. Это становится одним из важнейших императивов текущего периода.
РЕЗЮМЕ
Аналитическое переосмысление изменения степени и характера угроз сегодняшнего дня решает следующие конкретные задачи:
Прежде всего, это формулирование нового целеполагания на основе анализа изменений, происходящих как на глобальном уровне, так и в области внутренней политики.
Другой задачей является определение основных направлений деятельности по ликвидации новых негативных трендов на основе конкретизации результатов – снижение степени вероятности, организация превентивных мер по нивелированию разрушительного воздействия, ликвидация источников и предпосылок возникновения угроз, прекращение процесса их воспроизводства.
Третьей задачей является определение степени осуществления изменений в том или ином направлении – выработки чёткого понимания, что требуется – фундаментальное реформирование или частичная инновация той отрасли, где созревают предпосылки к реализации угроз?
Переживаемые страной кризисные явления продемонстрировали необходимость наращивания внутреннего запаса прочности для преодоления колебаний экономической конъюнктуры, для повышения эффективности государственного управления. Это критически важно для полноценного использования созданных в стране условий для устойчивого развития в перспективе.
Необходима решительная нейтрализация эгоистических устремлений внутриэлитных групп, прежде всего посредством демонстрации твердости в использовании соответствующих механизмов контроля, в отстаивании государственных интересов и санации основных опорных точек государственного механизма: правительства, силовых структур, фискальных органов, судов.
Очевидно то, что необходима тщательная переоценка большинства государственных и правительственных программ с точки зрения достижения в их реализации конкретных конечных или промежуточных результатов.
Содержание современных угроз ярко демонстрирует необходимость возврата к принципам стратегического планирования и ликвидации практики ситуативных спорадических решений, приводящих к разбазариванию финансовых и прочих ресурсов государства. Особую роль нужно уделять умению прогнозировать развитие мировых и казахстанских трендов, в особенности негативного и кризисного характера.
Требуется немедленная разработка комплекса мер по преодолению процесса депрофессионализации общества, по укреплению и развитию профессиональных методов управления государственной вертикалью власти.
Ключевым фактором развития ситуации на будущее остается укрепление и повышение эффективности института Президента, не только как основного субъекта политической системы, но и как главного инструмента государственного управления. При этом механизм проведения решений Президента в управляемую среду может быть модифицирован в институциональном, ресурсном и кадровом отношении.
Представленный документ описывает видение и идентификацию современного корпуса внешних и внутренних угроз национальной безопасности РК. Для дальнейшей проработки темы состояния угроз и написания практических рекомендаций по их предупреждению и профилактике создана рабочая группа, которая располагает соответствующими интеллектуальными, организационными и материально-техническими ресурсами
(2008г.)
Раздел 1. Общие тренды оппозиционного лагеря.
После выборов в Мажилис 2007 года вопрос о роли оппозиционных сил является одним из сложнейших в современной казахстанской политологии. Эта сложность заключается в том, что в оценке ситуации, в которой находится оппозиционная мысль в целом, как симпатизирующие, так и противники оппозиции сходятся в единой оценке – оппозиционный лагерь дискредитировал себя как организованная сила, представляющая интересы определенных слоев населения. В то же время социологические опросы всегда стабильно свидетельствуют о том, что оппозиция должна быть в стране. Пожалуй, самая массовая оценка граждан звучит примерно следующим образом – оппозиция нужна, у нее есть определенная важная роль, но существующие политические институты и деятели не соответствуют уровню исторических задач. Так большинство исследований отмечает высокие ожидания населения в просветительской деятельности, в то время как это направление долгое время находилось на периферии активности партий оппозиционного блока.
Обратившись к принципу SWAT анализа, в данном докладе будет сделана попытка дать оценку общих негативных и позитивных трендов оппозиционного лагеря, также возможностей и потенциала их развития (или трансформации) в будущем. Это позволит определить базовые принципы моделирования партийно-политического поля в дальнейшей перспективе.
1.
Коротко из истории необходимо отметить три основных этапа объединительных процессов оппозиционных партий и движений. Первый – это создание в 2001 году ДВК. Второй – это выдвижение единого кандидата в Президенты Казахстана в 2005-м году. Третий – альянс ОСДП и «Нагыз Акжола» в 2007 году на выборах в Мажилис. Таким образом, объединительными бренд-символами оппозиции последних лет являлись «Демократический выбор Казахстана», движение «За справедливый Казахстан!» и ОСДП образца прошлого года.
Очевидно, что все три организационные структуры не охватывали всего антивластного лагеря. Они больше символизируют собой основной политический тренд в оппозиции для определенного периода, нежели действительно всеохватное объединение. Такие слияния всегда разрушались об одну и ту же причину – высочайшую личностную конкуренцию в рядах антивластных сил.
Поэтому, к оценке общих негативных факторов можно отнести базовый – невозможность всеобщей консолидации антивластных сил под единым лидерством. Основная причина этого тренда носит не социальный характер, а полностью психологический. Ее можно охарактеризовать следующим образом – «Никто в оппозиции не хочет быть Президентом Казахстана, все хотят быть Назарбаевыми». По сути, реальная политика в рядах оппозиции сводится к возможности или невозможности компромиссов между людьми с президентскими амбициями, к столкновению команд, собравшихся вокруг своих «выдвиженцев в Президенты». Кстати, эти команды достаточно неустойчивы и периодически перетекают из лагеря в лагерь. По этой причине на текущий момент можно наблюдать очевидный кризис зонтичных структур антивластных сил – например, ЗСК. Очевидным трендом оппозиции сегодня является разъединение, нежели объединение.
Н.Назарбаев является центром всех политических доктрин оппозиции – неважно с отрицательной точки зрения или нейтральной. Сужение теоретической мысли до антипрезидентского формата, с одной стороны, кристаллизировало направление социального протеста, с другой –примитивизировало теоретическую мысль как таковую. По этой причине отношение к возможной смене формы правления в Казахстане на парламентскую может рассматриваться только лишь в ключе пропаганды с целью ослабления административной и политической власти действующего Президента.
Это является также причиной, почему оппозицию трудно расставить внятно в классическом политическом спектре «справа» «налево». Все градации достаточно условны, поскольку консерваторов в неофициальном политическом блоке нет. Прогрессисты видят эволюцию только до одной точки – до смены Н.Назарбаева. Далее – только общие и стандартные политически штрихи, которые в основе своей зиждутся только на перераспределении крупной собственности, принадлежащей правящему кругу и на социальном подкупе населения за счет роста поступлений в бюджет тех средств, которые сегодня оседают в офф-шорах, обслуживающих реальный сектор экономики. Это достаточно примитивная философия – прийти к власти, а там сориентироваться.
Отсюда другая основная негативная характеристика – абсолютная монохромность научных теорий, а, следовательно, идеологий, лежащих в основе доктрин оппозиционных партий. Объективно можно добавить, что и научности-то никакой нет. Вся теория выстраивается ситуативно, на базе возникающих социальных всплесков политизации и протестных настроений в обществе. Основная риторика – власть снова доказала тем или иным поступком свою антинародность.
В оппозиции нет научных центров, анализ базируется только на личных качествах ряда персон, способных осуществлять разбор текущей ситуации, но ограниченных в умении политического прогнозирования. Прогноз же базируется только на возможных перемещениях властвующих персон и на трендах в отношениях между группами влияния.
Выборы в Мажилис 2007-го года продемонстрировали еще одну отрицательную тенденцию в оппозиции – наличие «потолка роста доверия населения к существующим имиджам антивластных лидеров».
Во-первых, это связано с тем, что ряды оппонентов власти не пополняются яркими и новыми фигурами. В оппозиции уже сложилась собственная иерархия, тщательно оберегаемая лидерами. Гипотетический переход И.Тасмагамбетова, тщательно муссировавшийся в тот период, не привел бы к его безусловному лидерству. Он столкнулся бы с тем, что места лидеров заняты, и за них надо еще побороться. Ведь политическая мощь нынешнего акима столицы во многом обусловлена его существующим административным влиянием. При его потере, реальный авторитет И. Тасмагамбетова резко сужается естественным образом за счет потери этого ресурса, а также за счет энергичного противоборства со стороны действующих лидеров партий и движений. Поэтому реально гипотетический уход акима в то время в противоборствующий лагерь (так тщательно обсуждаемый в обоих политических лагерях), являлся не более чем теоретической «страшилкой».
Во-вторых, психологический фактор хронических поражений вырабатывает у общества отторжение к тем, кто практически не обладает никакими реальными ресурсами к положительному изменению ситуации в жизни простых граждан. Этот же фактор оказывает сильнейшее воздействие на самих оппозиционеров – пораженческие настроения являются одним из базовых политических страхов лидеров антивластных сил.
В кампании 2007-го года опросы общественного мнения демонстрировали остановку в развитии имиджей непосредственно в процессе предвыборной гонки. Наиболее яркие примеры: имидж «Акжола» и его лидера А.Байменова быстро набрал темп в течение первых 10-ти дней. Но после этого стабилизировался на неделю, а затем стремительно пошел вниз. Имиджи Б.Абилова и Ж.Туякбая обладали высокими показателями известности на самом старте – порядка 75-80 процентов. В то время как рейтинги доверия в итоге не выросли выше 14 процентов. Электоральный рейтинг за неделю прочно остановился и прекратил свой рост. Вообще кампанию 2007-го года можно назвать «кампанией потолков рейтингов», потому что и реальные показатели «Нур Отана» (естественно кардинально отличавшиеся от «психопрограммирующих» рейтингов) остановились уже в середине предвыборной гонки и полностью лишились существенной динамики роста доверия и электорального рейтинга. Одной из причин этого можно назвать стратегическую ошибку в использовании образа Н.Назарбаева с первых же дней, когда обычно в партийных выборах его имидж применяется в последнюю неделю, как «самый весомый аргумент».
Существует еще один немаловажный негативный аспект у оппозиционного лагеря в общем – это отсутствие явного лидерства над протестными настроениями общества. Этот аспект официально признавался в стратегических разработках 2007-го года, и его решение возводилось в ранг основной политической задачи. К слову, частично она была решена, но этот успех имел лишь временный характер и на сегодня очевидно утерян. Это связано с тем, что оппозиционные деятели откровенно догоняют поток развития общественной мысли и очаги возникновения протестности среди различных групп населения. Лозунги и платформы партий, не обладающие серьезной научной основой, лишены еще и привязки к конкретным интересам этих протестников. Сказывается то, что большинство социальных лозунгов оппозиции были декларативными.
Ключевой проблемой оппозиции является и главный вопрос политической силы – неумение предъявить населению внятного нравственного кредо. Все биографии лидеров оппозиции предоставляют достаточно простора для интерпретаций и сомнений в их бескорыстии или высоких моральных качествах. Но это не самая главная причина. Основными причинами, скорее всего, являются следующие две: (1) неумение признавать собственные ошибки и заблуждения – оно выражается, как правило, в категоричной форме. Это позволяло определять оппозиционеров как «Нур Отан наоборот». Особенно это характерно для лидеров партии «Азат»; (2) радикализм ряда партий является наигранным и лишь стереотипным, поскольку они не допускают и откровенно боятся вывода борьбы за рамки правил, определенных властями – сколько бы эти правила не сужались. Поэтому компромиссность в отношениях к ограничениям политической борьбы постепенно нивелирует принципиальную последовательность и всегда дает основания подозревать оппозицию в тайном сговоре с властью.
Существует определенный свод норм, позволяющий говорить о зрелости той или иной политической силы. Сегодня такое определение нельзя дать оппозиции, поскольку в их деятельности откровенно превалируют PR методы, которые ошибочно считают политическими технологиями. В сущности, вся методика действий построена на информационном эффекте, нежели на усилении реального влияния.
Традиционно классическим показателем зрелости оппозиции в целом является способность антивластных сил предложить обществу теневой кабинет министров. Создание альтернативного правительства представляет собой сильнейший индикатор зрелости, развитости и самостоятельности оппозиции, как политического течения. Как это можно наблюдать из казахстанского опыта, попытки создать теневой кабинет всегда заканчивались либо организационной неудачей, либо откровенной его карикатурностью.
Сегодня можно с достаточной долей объективности говорить, что дискредитация оппозиционных партий все же реально состоялась. Свод общих негативных качеств сыграл здесь ключевую роль, разрушительную для оппозиционного лагеря. В предыдущем докладе уже описывался процесс неуклонного политического перепозиционирования антивластных сил в ряды своеобразной альтернативной элиты, без опоры на контрэлитный и массовый общественный протест.
2.
Несмотря на то, что негативные факторы обладают достаточной силой разрушительного воздействия для оппозиции, нельзя не отметить и ряд позитивных факторов в ее политическом status quo сегодня (позитивных для оппозиции). Этот позитив имеет два качества – внутреннего характера и положительной окружающей конъюнктуры.
К внутреннему позитиву необходимо отнести организационную солидарность. Практика действий без поддержки административного ресурса послужила накоплению опыта сетевой организации кампаний. К примеру, несмотря на то, что всеобщего объединения в 2007-м году на руководящем уровне не произошло, на союз в виде ОСДП на местах работали активисты «Алги», коммунистов С.Абдильдина и прочих организаций антивластного лагеря. Союзная ОСДП, в отличие от ЗСК образца 2005-го года, добилась синхронного исполнения тактик и трансляции идеологем по всей стране.
Вторым позитивным для оппозиции фактором является обладание и умение работать с информационными каналами, пользующимися высоким доверием населения. К ним относятся популярная оппозиционная пресса, Интернет и, самый главный канал – распространение информации неофициальным способом (слухи, узун-кулак, лидеры мнений и пр.). Причем по своему совокупному эффекту воздействия эти каналы значительно опережают по степени доверия все официальные СМИ вместе взятые.
Третьим фактором преимущества существующей оппозиции перед властью является высокая мобильность и оперативность в принятии решений. Это касается и области достижения компромиссов между основными игроками (несмотря на противоречия между ними).
Четвертой сильной характеристикой является то, что оппозиция сумела сохранить национальный характер – не зависящий от внешних геополитических трендов. Это стало результатом политики «двойных стандартов» западных «демократизирующих» организаций и боязнь социальной революции (которая стереотипно зачислена в разряд «цветных переворотов»). Отсутствие внятной внешней поддержки, таким образом, привело оппозицию к необходимости рассчитывать только на собственные силы. Как ни парадоксально, в стратегическом плане это принесет определенные положительные дивиденды для оппозиции Казахстана.
Из числа факторов внешней положительной конъюнктуры необходимо отметить очевидный перегрев денег в политике. Он выражен в желании определенных групп влияния финансировать оппозицию «на возможную перспективу». Резкое увеличение объема финансирования «Нур Отана» привело к пониманию дороговизны политической борьбы, а следовательно, к росту объемов вливаний в нее. Противостояние бюджетов является вполне конкретной политтехнологической категорией, и это понимают сегодня все. Поэтому, вне всякого сомнения, в ближайшем будущем объемы предложений финансов на рынке политики будет возрастать. При этом «формальная оппозиция» будет обладать определенными преимуществами в получении этих средств.
Провалы «зонтичных» структур являлись лишь временным явлением – просто каждому этапу развития будут соответствовать новые принципы объединения. Несмотря на антагонизмы личностей, осознание фактора слабости отдельных партий, приведет к рождению новых «зонтиков». Сегодня наиболее сильной инициативой оппозиции является создание «Халык кенесы» – по сути, альтернативного Мажилиса. Сегодня очевидно то, что возникновение однопартийного парламента абсолютно не воспринято населением. В условиях этой отрицательной для власти конъюнктуры, структуры альтернативного народного представительства будут встречать постепенно растущую поддержку. Сила «Халык кенесы» будет состоять отнюдь не в обладании ресурсами решения реальных проблем (у оппозиции их просто нет) – главную роль будет играть «демонстрационный эффект» сравнения Мажилиса и этого абстрактного совещания. Разумеется, только в том случае, если ОСДП справится с задачей создания псевдо-палаты.
Антикризисная инициатива «Азата» объективно не идет ни в какое сравнение с «общественным парламентом», а лишь подчеркивает элитарный вектор их мышления. В принципе об их инициативе созыва Антикризисного совещания можно быстро забыть, как о рядовом информационном поводе из области PR. «Халык кенесы» же является первым этапом к зрелой подготовке теневого кабинета, сам по себе являясь квалифицированной заявкой на альтернативную власть, способной отчетливо высвечивать проблемы легитимности власти официальной.
К позитивной конъюнктуре для оппозиции необходимо отнести также мультипликативный социальный эффект от ипотечного кризиса. Пока антивластные партии не обладают внятной стратегией по тому, как получить политические дивиденды от сложившейся экономической ситуации. Однако к осени рост общественного сознания без сомнения кристаллизирует ряд возможных направлений для них. В первую очередь потому, что социальность протеста постепенно перерастет на политический уровень.
Благоприятную конъюнктуру представляет собой и пока не появившаяся отчетливо тенденция некоторых групп влияния в стремлении использовать оппозицию для ослабления центральной власти. Открыто манипулирует оппозицией пока только Рахат Алиев, подогревая общество выбросами компромата и провокационной информации. Антивластные силы, испытывающие объяснимое отторжение к способам действий Р.Алиева и к нему лично, тем не менее, отчетливо понимают, что в осуществлении разрушительных для центральной власти акциях, он является их «естественным союзником». В ближайшем будущем оппозиции придется дать внятную морально-нравственную и политическую оценку деятельности бывшего посла. Это будет нелегко, поскольку придется всячески избегать «двойных стандартов в подходах».
Сложность заключается в том, что Р.Алиев на сегодня тоже является оппозиционером действующему политическому строю и, между прочим, наиболее эффективным. Политическую оценку же придется делать не самому Рахату, негативно относиться к которому легко, а материалам, которые он выбрасывает в общество. Как уже отмечалось выше, лидеры антивластного лагеря очень ревностно относятся к своей иерархии и энергично сражаются со всеми, кто угрожает их «особому» положению. Р.Алиев же резко занял собственную нишу, никого не спрашивая о том, какое место он займет в традиционном антивластном движении. Это пока задерживает выработку внятной «доктрины по Р.Алиеву» у лидеров оппозиции внутри страны. Однако, истощившей свои аргументы оппозиции, будет крайне на руку продолжение вброса компромата в страну, В определенный момент этот компромат прочно займет свое место в протестных доктринах партий и движений, борющихся против политического строя.
В заключении раздела о сильных и слабых чертах оппозиции необходимо выделить один фактор, который пока не играет существенной роли, но, несомненно, обладает некоторым эффектом «накопления вероятности». Выше уже отмечалось, что антивластные силы обладают определенным опытом политической борьбы без административного ресурса.
В сочетании с ростом массовых характеристик протестности, которые пока идут параллельно с деятельностью оппозиции, этот организационный опыт может сыграть существенную аккумулирующую роль. «Схлестывание» двух факторов содержат в себе потенциал качественного роста оппозиции уже в ближайшее время.
Подобное «схлестывание» фактора общественного ожидания и организующей деятельности оппозиции можно было наблюдать в 2007-м году. Многие ошибочно полагают, что высокий процент голосов, отданных за ОСДП (есть основания полагать, что их было гораздо больше, нежели показали бюллетени), связан с популярностью лидеров объединенной партии. Реальным же настроением, побудившим многих голосовать за ОСДП, было желание иметь право выбора. Собственно этот фактор и лег в основу дальнейшего всплеска роста общественного сознания в Казахстане.
Раздел 2.
«Формальная оппозиция». Основные игроки и общественные деятели.
В данном разделе будут рассмотрены основные игроки оппозиционного лагеря с точки зрения их потенциала развития или наоборот – бесперспективности. В предыдущем разделе отмечалось, что по своему теоретическому и политическому ориентированию оппозиционные партии мало чем отличаются друг от друга. Даже коммунистов, являющихся апологетами ушедшей общественно-экономической формации трудно выделить в особую теоретическую доктрину. Тем не менее, различия существуют, и в разделе акценты будут сконцентрированы на них.
Прежде чем приступить к изложению своеобразных черт оппозиционных партий необходимо, внести ясность в понятие «конструктивизм оппозиции». Как известно, этот термин длительный период определял водораздел между политическими институтами по отношению к властям различного уровня. Под «конструктивными» подразумевались те партии, которые, применяя в своей риторике критику различных сфер жизни, не касались критики Президента. «Радикальными» было принято считать тех, кто свою деятельность ориентирует на смену главы государства, как апологета политического режима в целом.
После президентских выборов 2005-го года, прошедших в атмосфере влияния внешних факторов «цветных переворотов» такая градация постепенно теряет свою актуальность. В сущности, любая оппозиция конструктивна, даже если претендует на получение максимальной власти в стране – это, собственно, исходит из ее естественных задач. Вопрос касается лишь методов ведения политической борьбы – если речь идет о неприятии легальных способов, в рамках существующих норм законодательства, то оппозиция только тогда может признаваться радикальной. В условиях, когда оплот радикализма, партия «Алга», всячески стремится в легитимное поле, становится очевидным, что радикальность часто является приписываемой, нежели объективной. По сути, в политическом поле существует три уровня политического оппонирования – оппозиция, радикальные революционеры и диссиденты.
В настоящее время очевидно, что второй категории оппонентов власти просто не существует, в силу ряда объективных причин. Это не значит, что никто не обладает потенциалом к реальной радикализации – просто общественные объединения не обладают достаточными ресурсами, чтобы встать на революционный метод борьбы. Это касается ресурсов различного плана – общественной поддержки, политической воли, финансов и пр. Общая ориентированность общества на ценности стабильного развития и на потребительский комфорт нивелировала привлекательность экстремистского метода.
Опыт последних лет показал, что чрезмерная демонизация оппозиции некоторыми государственными деятелями, часто имела целью усиление собственного ресурса власти, получения под контроль больших финансовых средств, направляемых на разворовывание. Негативные последствия этого косвенно сработали против власти (выше говорилось об искусственно созданном перегреве денег в политике). Итогом такого несбалансированного политического моделирования стало возникновение однопартийного Мажилиса.
«Конструктивный» протест лишился всякого социального самовыражения. В итоге сегодня оппозиционные партии уже реально столкнулись с проблемой радикализации «по-настоящему». Такой выбор будет стоять перед ними весь период развития кризисных явлений в казахстанском обществе не менее двух предстоящих лет. Пока все политические силы находятся в стадии накопления аргументации в сторону выбора того или иного характера оппонирования власти. Получается, что власть сама вывела оппозиционеров из поля политической игры в поле политической войны.
Текущий период можно охарактеризовать как «время диссидентов» и социального протеста. Не случайно сегодня высокой популярностью пользуются не организованные партии, а всевозможные публикации и мнения отдельных лиц, подогревающие социальный протест в сторону превращения его в политический. И этих публикаций становится все больше.
Далее речь пойдет об оценке оппозиционных партий с точки зрения их дальнейшего развития по вопросу реальной радикализации, по градации по отношению к компромиссам на взаимовыгодных условиях, по той роли, которую они сыграют в формировании направлений динамики общественного сознания.
Для того чтобы не вдаваться в несущественные подробности, разделим партии по определенным классификационным принципам. Типология позволит выявить основные тренды в определении стратегического отношения к ним в будущем. Для этого необходимо лишь знать основополагающую суть той или иной партии оппозиционного блока, избегая характеристик тех имиджей, которые они стремятся создать.
Партии лидерских амбиций. К ним относятся Общенациональная социал-демократическая партия и «Азат». Эти партии выражают постоянные стремления к лидерству во всем оппозиционном лагере. Ж.Туякбай был единым кандидатом от радикальной оппозиции в 2005-м году. А.Сарсенбаев являлся ее главным идеологом, будучи сопредседателем «Нагыз Акжола». В 2007-м году произошло вливание НАЖ в ОСДП, а не наоборот. Во время избирательной кампании в Мажилис «нагыз акжоловцы» львиную долю энергии посвятили не столько борьбе с конкурентами, сколько доказательствам своего равенства или лидерства в этом альянсе. После «развода» две партии лишь эпизодически выступали на единой платформе, однако координационного центра уже не существовало. ОСДП выходит с инициативой создания «Халык кенесы», «Азат» предлагает Аниткризисное совещание и не вступает в Общественный парламент. Этот список противостояния можно детализировать, но смысл остается одним – две партии будут углублять конкуренцию по позиционированию себя в качестве лидера антивластных сил.
Разница же между ними весьма существенная: (1) Ж.Туякбай постепенно утрачивает президентские амбиции, в то время как у Б.Абилова они растут и подогреваются окружением; (2) «Азат» обладает систематическим финансированием от «клуба поддержки», в то время как ОСДП весьма ограничена в финансах; (3) ОСДП опирается на деятельность в правовой сфере, «Азат» наибольший акцент делает на PR инструментарии.
Очевидно, что эта конкуренция будет углубляться с переменным успехом, и потенциал их объединения будет исчезать совсем. Существует попытка развести эти две партии по политическим «крыльям» – дескать «Азат» представляет собой праволиберальные ценности, а ОСДП – левоцентристские (Социал-демократия).
Можно подвергнуть анализу конечные цели руководителей этих партий, и через их понимание – сделать выводы о тех доктринах, которые они будут реализовывать, гипотетически получив власть в свои руки. По этим целям можно действительно судить о политических идеалах оппозиционных партий. Только здесь не будут рассматриваться декларируемые цели, а те, что проистекают из изучения практики их формулирования ценностей.
В действительности «Азат» скорее ориентирован на строительство корпоративного капитализма корейского образца, когда власть обеспечивает доминирование трех-пяти крупных национальных корпораций. При этом к широким слоям общества достаточно потребительское отношение. Тот есть речь, очевидно, идет о буржуазных интересах конкретного характера. Это заметно по «клубу поддержки», по методам организации и привлечения ресурсов, по базовым формулировкам, применяемым в постановках политтехнологических задач.
ОСДП вообще не обладает чётким пониманием того, что бы она сделала в случае обретения власти. В этом плане молодость партии играет не в ее пользу. ОСДП большое внимание уделяет процедурным правовым вопросам, деталям законодательства, пользуется антиэлитной и национальной риторикой. Большое значение придается зарубежным контактам – прежде всего по линии Социнтерна и европейских институтов.
Обе партии декларируют антивластные лозунги в стиле «от противного» – «вот таких-то, таких-то пороков правящего режима после нашего прихода к власти не будет».
Многое позволяет утверждать то, что на текущий момент стратегии ОСДП и «Азат» ориентированы все же на политический компромисс с властью. Дело в том, что они могут реализовать себя только в легитимном пространстве. В этом отношении идеальным правовым полем для них являются выборные кампании. Сделать ставку на прямую радикализацию методов борьбы для партий-лидеров объективно трудно, поскольку приоритет личной безопасности сильнее всех остальных. Пока основными трендами поведения являются два – (1) ожидание открытия нового легитимного поля выборов, в частности ориентир на 2012 год и (2) попытки «оседлать» любой массовый протест в обществе. По причине (1) партии усиленно распространяют слухи о готовящихся выборах в Мажилис, психологически компенсируя отсутствие внятного пространства для политической игры.
Партии политического антуража. «Акжол» и «Адилет». Сюда же можно причислить «Руханият», «Аул» и КНПК, но эти организации являются откровенно техническими. В группе «политического антуража» лидером является партия Байменова. Во всех выборных кампаниях она играет роль «конструктивной оппозиции», задача которой сводится исключительно к тому, чтобы оттенять «радикализм» других оппозиционных партий.
Из характерных имиджевых достоинств партии можно вспомнить только казахский язык ее лидера. Этот фактор позволяет «Акжолу» оттягивать на себя часть национальной интеллигенции. Не случайно в 2007-м году партия всячески пыталась провести аналогию между собой и Алашордынцами. Судя по тому, что об этом можно вспомнить с трудом, это был не самый удачный брендинг. Возможно еще, что поддержка «Акжола» строится на тех лицах, которые сохранили пиетет к Байменову, как к бывшему главе президентской администрации, но этот потенциал чрезвычайно быстро иссякает.
В 2007-м году позиционирование себя в качестве умеренной партии даже при ресурсной поддержке властей, определенно не принесло «Акжолу» политических дивидендов. Скорее привело к его полной дискредитации.
Партии антуража не способны формировать внятную и самостоятельную политическую линию, однако в качестве обеспечения массовости и представительности играют неплохую роль в различных «зонтичных структурах». По этой причине «Акжол» немедленно согласился с инициативой ОСДП о создании Общественного парламента. Перспектива роста партии Байменова зависит только от исторического случая, если ей удастся «оседлать» какую-либо одну протестную волну, опередив других.
Что касается партии Нарикбаева («Адилет»), то здесь мы ее рассматриваем только с точки зрения участия в предвыборном альянсе с «Акжолом» в 2007-м году. Тогда слияние двух партий сыграло роль технического дубля партиям, объединившимся на базе ОСДП. Фактически, если ОСДП боролась с «Нур Отаном» за место на политическом Олимпе, то «Акжол» боролся с этим союзом, просто за право существования.
Партия «Алга» и КПК. Это совершенно разноплановые партии, и они объединены здесь только в силу краткости сущностных характеристик. КПК Абдильдина является «стареющей партией» и не более, чем данью традиции, хотя и обладает законченным брендом, оставшимся от Маркса и Ленина. «Алга», по сути, борется только за сохранение финансирования своей организации, как единственный источник дохода для работников ее структур. К такому состоянию ее привел уход А.Кожахметова.
Диссиденты. Это наиболее интересная группа оппозиционеров. Интересна она тем, что сегодня активно влияет на рост общественного самосознания и является его неотъемлемой частью. Базовая сущность их публичной деятельности представлена тем, что критика диссидентов, как правило, направлена во все стороны – и на власть, и на оппозицию. Наиболее типичным представителем является С.Дуванов. П.Своик перестал быть типичным, поскольку формализовался в партии «Азат», но, возможно, это временная для него позиция.
Суть диссидентства вообще заключается в том, что его представители противостоят любой власти, какая бы она не была сегодня. Поэтому сюда же можно причислить и Е.Жовтиса, поскольку тема прав человека неистощима в любом капиталистическом обществе. Как правило, диссиденты не любят принадлежать к какой-либо организации, поскольку это ограничивает их свободу тотальной критики. Г.Жакиянов, один из сегодняшних политических индивидуалистов, не проявил себя как диссидент-теоретик. Скорее он несет в себе символ сопротивления властям на бескомпромиссной основе. Однако, этот символизм пока не капитализирован в какой-либо политический тренд.
А.Кожахметов, лишившись партии, достаточно эффективно переключился на конкретный блок задач, связанных с проблемой «Шанырака». Кстати, риторика его последнего выступления по телеканалу «Астана» достаточно чётко демонстрирует готовность всех оппозиционеров к компромиссам в обмен на возможность работать в легитимном поле, при условии их представленности в выборных органах власти.
Раздел 3.
Моделирование политического пространства.
Из описания партий оппозиционного блока можно сделать следующие выводы:
При моделировании партийно-политического пространства власти целесообразно связывать стратегические планы с ключевыми организациями, обладающими лидерскими позициями. Увлечение партиями технического антуража искусственно повышает общую стоимость политического рынка и приводит к сумятице интересов. Эта определенная бессистемность связана с чрезмерным увлечением политическими и PR технологиями, в ущерб Realpolitik, реально способной обеспечить приемлемый и стабильный баланс интересов в описываемой сфере.
Ориентир на лидеров обеспечит решение ключевой задачи сегодняшнего дня – в условиях усиления кризисных тенденций. Этой задачей является своевременное предвосхищение инициативы общества по созданию новых организаций и выдвижения новых лидеров «снизу». Результатом такой инициативы станет появление оппонентов, поведение которых будет не настолько изучено и предсказуемо. Возможно и то, что потенциал их к ведению политики на основе компромиссов будет мизерным и обратится в сторону действительно радикальных методов борьбы. Поэтому для интересов власти предпочтительнее иметь дело с предсказуемым оппонентом, стремящимся действовать в рамках легитимного поля.
Ситуация для начала моделирования партийно-политического пространства удобна, поскольку все общественные объединения оппозиции переживают очевидный упадок.
Удобной ситуация представляется и с другой точки зрения – в силу того, что в организационной деятельности оппозиции появляется новая «зонтичная» структура – «Халык кенесы». Взаимодействие с единым объединением позволяет вести концентрированную политику в одном направлении, оставляя ориентир на лидеров достаточно незаметным для информационного пространства.
Эффективным тактическим решением может стать введение в «Халык кенесы» фракции «Нур Отана», апеллируя к тому, что без нее представительство народа неполноценно. В Общественный парламент делегируются те члены партии власти, которые способны вести гибкую политическую игру. Прямолинейные пропагандисты могут испортить всю кампанию и привести это тактическое решение к противоположному результату. Возможна организация «встречной» инициативы со стороны ОСДП.
С целью моделирования конкуренции между партиями-лидерами в оппозиции, необходимо поддержать и инициативу «Азата» по созыву Антикризисного совещания. Только это совещание должно выкристаллизоваться из работы партии власти с оппозицией в Общественном парламенте. Разумеется, статус совещания должен быть на уровне премьер-министра. Название органа может быть таким – «Совещание при премьер-министре по вопросам социальной политики в условиях кризиса (кризисных явлений, экономических трудностей и пр.)».
Такая тактика проистекает из важнейшей задачи власти – укрепления реальной, а не мнимой конкурентоспособности НДП «Нур Отан». Поскольку перед ней ставятся фундаментальные задачи по работе с общественностью, необходимо постоянное погружение ее в конкурентную среду, что будет укреплять полемический дух партии власти. Параллельно решается и другая социальная задача – оппозиции предоставляется социальные каналы «выхлопа» энергии, накопившейся в результате перекрытия доступа к публичной трибуне выборных органов.
Самым главным итогом решения задачи конкурентоспособности «Нур Отана» является широкая база реальной социальной поддержки. Сегодня очевидно, что усиление интенсивности прямолинейной пропаганды не приводит к решению конкретных задач по развитию электоральной поддержки партии власти. Необходимо выделить еще один аспект – политическая неконкурентность, выраженная в изолированности, неизбежно и очень быстро приведет к непредсказуемости и ограниченной регулируемости самого «Нур Отана», поскольку все тенденции социального перегрева будут пробиваться внутри нее. Это означает, что в условиях однопартийного парламента, если не направить потенциал «Нур Отана» на внешних оппонентов, партия рискует сама погрязнуть во фракционности и внутрипартийных дискуссиях и расколах.
Рассматриваемая тактика охватывает ближайшие два-три года. Для разработки более фундаментальных планов потребуются усилия прогнозистов и аналитиков, организованных соответствующим образом.
В долгосрочном плане можно рассматривать гипотетическую оптимальную модель парламента, соответствующую типу развития Казахстана. Моделирование оппозиции необходимо осуществлять именно в привязке к выборному рейтингу и к положению ее фракций в палатах главного выборного органа страны. Только этот ракурс видения представляет собой реальное моделирование сбалансированного развития партийно-политического пространства.
Очевидно, что рассматриваемая не так давно двухпартийная система стала нецелесообразной сегодня. Однопартийная система является по сути тоталитарной и, очевидно, носит временный и ситуативный характер. Ведь даже в коммунистическом Китае в парламенте существует фракция гоминьдана.
Сформировавшийся в Казахстане парламентаризм азиатского типа скорее всего приведет к кристаллизации следующей модели фракционной организации парламента. Партия власти обладает «блокирующим пакетом голосов» в 55-60 процентов. Порядка 25-30 процентов должна занимать партия социал-демократического толка, ориентированная на интересы неэлитных слоев общества, малого и среднего предпринимательства (фермеров) и людей наемного труда (в негосударственном секторе). 7-15 процентов занимает либеральная партия, ориентированная на отстаивание интересов национальной буржуазии против интересов ТНК. Оставшиеся проценты (если остаются) получают по одному представителю от различных течений, временно набирающих популярность в обществе – национал-радикалы, экологи, молодежные антивластные движения, профсоюзы и пр. «Вилка» в процентах подразумевает изменения в конъюнктуре голосования в зависимости от складывающейся внутриполитической ситуации.
Азиатский тип подразумевает доминирование партии власти и «хроническое меньшинство» ее оппонентов. Суть политической игры для партии власти в основном заключается в балансировании и строительстве альянсов с одной из крупных фракций, в зависимости от конъюнктуры. Чрезмерное уменьшение фракций оппозиции неизбежно приведет к постоянному их блокированию друг с другом, что нивелирует все возможности политического маневрирования. Появление в парламенте технических партий лишает этот процесс сути, поскольку партии антуража всегда будут заниматься только PR деятельностью, лишая смысла политику.
Такая схема является устойчивой со многих точек зрения. Во-первых, традиционные игроки плотно привязываются к ценности ведения политической борьбы строго в легитимном поле. Все они самостоятельно становятся на рубежи защиты от социального радикализма и экстремизма. Во-вторых, в устранении вновь растущих конкурентов «снизу» заинтересованы только партии оппозиции, потому что для партии власти не принципиально, кто именно составляет «хроническое меньшинство». В-третьих, поле политической конкуренции приобретает системный и прогнозируемый характер.
*****
В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что моделирование перспектив развития партийно-политического пространства является сложнейшей задачей. В исполнении ее целесообразно избегать спорадического управления, основанного на ситуативном выражении чьих-либо мнений. Основой успешности политического моделирования являются анализ, прогнозирование и четкое исполнение политических тактик по всей вертикали общественных институтов власти. В отношении к политическим оппонентам надо избегать «шапкозакидательских» эмоций, использовать тот позитивный для власти потенциал, позволяющий ей сохранять стабильность и поступательность развития казахстанского общества. Такие подходы позволяют видеть процессы в длительной перспективе и работать на опережение не только оппонентов, но и развития возможных негативных трендов в обществе в целом.
(цикл «Власть и общество», 2008г.)
Жанр данной работы можно определить в виде политологического эссе, в основу которого лег собственный опыт автора, накопленный во время работы в различных аналитических структурах и непосредственно в процессе реализации ряда политических кампаний и на государственной службе.
Отличие этого жанра от стандартного доклада будет состоять в том, что доклад обычно является итогом тщательно проведенных исследований общества. Здесь же, наоборот, в основном заложены тезисы, подтверждение или опровержение которых предстоит провести в будущем. В особенности, необходимость тщательного изучения касается предложенных в конце мер практического характера, поскольку их важность для казахстанского общества предполагает степень наивысшей актуальности.
Раздел 1.
Общее содержание периода
Данному разделу предстоит вкратце ответить на два вопроса: первый – что является наиболее общей и универсальной характеристикой текущего периода? И второй – какова казахстанская власть по своему фундаментальному социальному содержанию?
Прошедшие этапы развития независимого Казахстана позволяют утверждать, что главным содержанием сегодняшней общеполитической повестки дня является завершенность транзитного периода перехода от одного общественно-экономического уклада к другому. Выражаясь марксистской терминологией, произошел окончательный демонтаж социалистического способа производства и построено рыночное буржуазное государство, стоящее на капиталистических рельсах развития.
Почему именно сейчас, в 2008-м году, мы позволяем себе утверждать, что транзитный период завершен, ведь этот тезис и раннее, еще в 2004-5 годах фигурировал в выступлениях Главы государства? И почему только сегодня мы можем назвать его основным содержанием периода?
Потому что, во-первых, ранее утверждение о завершении транзитного периода всегда дополнялись тезисом «транзит в целом закончен, но реформы не завершены». Во-вторых, главную содержательность текущей стадии развития определили изменения в Конституцию, сделанные в 2007 году и прошедшие прошлой осенью выборы в Мажилис. С проведением этих двух кампаний политическая реформа, последовавшая после широкого плебисцита, была объявлена реализованной. А в результате выборов возник однопартийный парламент, и политическая система на этом этапе приобрела черты унитарной законченности.
Однако это не более чем внешняя сторона процесса. Основным внутренним содержанием является то, что с одной стороны в экономике окончательно завершилось первоначальное накопление капитала, с другой – политическая система, призванная обеспечить осуществление этого накопления в пользу правящей группы, также приобрела законченный вид, максимально отвечающий ее интересам. Эти два фактора сошлись воедино именно теперь в одном историческом моменте – своеобразной «пиковой фазе развития». И именно этим определяется некая растерянность теоретиков в понимании – что дальше?
Несомненно, можно ожидать возражений, утверждающих, что накопление капитала уже давно прошло несколько стадий перераспределения, чтобы считаться первоначальным. Изменились и качественные характеристики капитала, но – вопрос лежит не в экономической плоскости, а в области установления определенных общественных отношений.
В этой сфере осуществилось окончательное складывание характерных социальных слоев, максимальная кристаллизация их интересов, социальная дифференциация, присущая рыночной структуре экономики, сформировалась пирамида политического влияния и «коридоры социальной динамики» различных групп казахстанского общества. Произошла кристаллизация представлений людей об успехе и периферийности, о стандартах потребления и пр.
Проще говоря, «пиковая точка развития» означает то, что правящая группа, поставившая перед собой задачи строительства государства и его экономики в своих интересах, успешно и окончательно добилась исполнения этой цели.
Муссировавшееся раньше понимание, что политическая реформа всегда находилась в хроническом отставании от экономической, не соответствует действительности. Реформа политических институтов, осуществляемая на основе сформулированного еще в 90-х годах тезиса о «разумном авторитаризме», никогда не отставала от экономического строительства.
Вопрос лишь в том, что она осуществлялась в интересах сложившейся правящей группы. Именно в этом ключе сегодня можно сказать, что теперь, после 2007-го года сформировавшиеся общественные отношения практически полностью им соответствуют. В созвучии с этими интересами сформированы правовая база, государственные и политические институты, инструменты массовых коммуникаций, принципы управления и кадрового подбора, заданы принципы деятельности силовых структур и прочее.
Что касается фундаментального социального содержания правящей группы, то сегодня ни у кого не вызывает сомнения то, что она представляет собой власть крупного международного капитала. Правящая элита организована по олигархическому принципу, когда высшая власть неразрывно слита с флагманскими секторами экономики и сосредоточена в руках крупнейших буржуа.
Несмотря на усиленную риторику властной пропаганды о том, что в Казахстане строится «государство общенациональных интересов» или «государство общественного блага», широким слоям общества очевидно, что доминантой в принятии властью окончательных решений являются узкие крупно-буржуазные интересы.
По всей видимости, именно противоречие между декларируемым «государством общенациональных интересов» и доминантой принятия решений и стало основой ситуации, когда «власть и общество – не партнеры».
Причина этого явления не только в банальном недовольстве итогами приватизации. Как правило, ни в одной стране первоначальное накопление капитала не считается справедливым с точки зрения широкой общественности. Даже если принять во внимание, что особо обостренным это чувство несправедливости является в странах с постсоветским сознанием, каким является Казахстан. Даже если не учитывать, что в нашем обществе богатство нашей страны природными ресурсами воспринимается как «фактор общенациональных интересов».
Причина ситуации «власть и общество – не партнеры» заложена в резком росте общественного самосознания в последние два года и специфических явлений, связанных с этим ростом.
Раздел 2.
Формы сознания
В свое время в работах ЦКТ «Репутация», касающихся исследований некоторых глобальных явлений, был выявлен т.н. феномен «зрелости 10-15 лет» для стран, начавших независимое развитие. По истечении этих лет политические режимы достигают некой точки переосмысления, после которой восприятие ранее очевидных истин и целей может кардинально поменяться.
За период первых 10-15 лет общества, как правило, проходят несколько стадий выбора моделей развития, обычно заимствованных у других государств из-за отсутствия собственного опыта. Такими моделями являются – путь модернизма, или «догоняющего развития», (прямое копирование государственного строительства развитых стран), референтного развития (выбор в качестве модели развития референтной модели государств, обладающих исторической или другой схожестью), депендентизма (признание зависимости национальной экономики от глобальных трендов и вариативного воспроизводства этой зависимости) и пр. Затем, как правило, заявляется амбиция на разработку собственной модели (ср. «Казахстанский путь»)
В этот же период в стране происходят процессы качественного и интенсивного изменения общественного сознания. Рост совокупной общественной мысли в определенный момент выходит на уровень системного критического переосмысления политического и экономического курса властной элиты и позволяет давать ему все более квалифицированную оценку. Такой рост формирует собой новый качественный вызов правящей элите, ранее получавшей практически безусловный кредит доверия.
Когда актуализируется проблема формулировки собственной модели развития, тогда же общество подходит к необходимости многоаспектной оценки уже пройденного пути, как говорится, без шор.
Сегодня в нашем обществе подобные процессы видны «невооруженным глазом». Особенно они заметны со второй половины 2007-го года и продолжают развиваться вплоть до текущего момента. Примечательна широта поднимаемых тем и вопросов, глубина и чёткость определений, увеличение числа публицистов и публичной полемики вокруг явлений, которые ранее были доступны к пониманию только узкому кругу экспертов. В сложившейся казахстанской специфике особенностью является то, что развитие самосознания происходит в отдельном от власти сегменте коммуникаций и проявляется в виде роста дифференцированного протестного сознания в различных формах и выражениях. А общей сутью протестности является понимание того, что собственная казахстанская модель строилась в основном в интересах отнюдь не общенационального характера.
Протестные формы сознания
Если классифицировать протестность по формам сознания, то на первый план сегодня выдвигаются две основные группы.
Первая группа – это носители либерального буржуазного сознания, которые не получили того, что называется «свободным рынком» – свободы конкуренции, свободы частной инициативы, неприкосновенности частной собственности и защиты всех этих норм со стороны государства, в особенности судебной системой. Представители этой формы сознания недовольны результатами первоначального накопления капитала, а если и готовы согласиться с ними, то при условии либо демократизации капитала в будущем, либо появления возможности его естественного перераспределения через механизмы рынка (например, через рынок ценных бумаг). По всей видимости, их надежда, что так именно произойдет, постепенно слабеет и это, соответственно, усиливает протестность первой группы.
Другим фактором недовольства носителей либерального образа мышления является четкое эмпирическое знание того, что каждая независимая частная инициатива имеет в Казахстане различные «потолки роста», по достижении которых неизбежны либо остановка в развитии, либо полное или частичное поглощение олигархиями. Эти «потолки» могут выстраиваться не только на национальном, но и на региональном уровне.
Не следует считать, что носителями данного сознания являются только предприниматели. В силу исторических причин подавляющая часть госслужащих и представителей бюджетного сектора, так или иначе, имеет опыт частной инициативы. Сюда же нужно отнести постоянно игнорируемую массу «самозанятых», которая в основном представлена деклассированными выходцами из разных слоев города и села.
В политическом плане эгоцентричность представителей этой формы сознания сублимируется на борьбу за демократические права и свободы одного отдельного человека, как субъекта гражданственности.
Вторая группа более обширна и разнообразна, но все же представляет собой единый массив по форме сознания – носители коллективистского и адаптационного сознания. Эта форма во многом обусловлена постсоветским фактором, поэтому и несет в себе две характеристики. В сущности, в экономическом плане это «люди зарплаты» и или «люди пособия» (включая пенсии и иждивенцев). Сюда же включаются и «люди несистематических гонораров» – творческие, научные профессии (исключая бизнес консультантов и адвокатов).
Коллективистская характеристика означает зависимость от социальной политики государства, ориентир на социал-демократические (неосознаваемые теоретически) ценности, противопоставление себя эгоизму частнособственнической психологии, приоритет коллективной безопасности и ответственности, видение своих целей в рамках интересов групп и коллективов. Собственно, потому что, коллектив (корпоративный, профессиональный или национальный) играет ключевую роль в их жизни.
Здесь особую группу представляет собой рабочий класс крупных казахстанских предприятий, проходящий классический рост самосознания в капиталистическом государстве. Также важнейшим в Казахстане образцом коллективистского патерналистического сознания является национально-радикальная мысль, отражающая фундаментальную проблему незавершенности национальной идентификации граждан страны.
Адаптационная характеристика означает то, что фактический статус этой группы в обществе не изменился со времен социализма. Однако она вынуждена адаптироваться к условиям рынка на фоне резкого падения патернализма со стороны государства (по сравнению с социализмом).
В отличие от носителей либерального сознания эта группа сублимирует свои политические взгляды на коллективные и солидарные формы защиты собственных интересов. Поэтому, вопреки сложившимся стереотипам «социалисты» обладают гораздо большим потенциалом к организованному и масштабному протесту, чем носители либеральной мысли. Этот потенциал пока в полной мере не проявился, но характер социальных конфликтов, формировавших повестку дня в последнее время, демонстрирует, что он постепенно накапливает свою силу. Примером открытой протестности данной группы могут послужить такие разноплановые события, как Шанырак и Бакай, столкновения в Атырау, в Маловодном, в Шелеке, среди металлургов и шахтеров Карагандинской области, рост температуры активности среди профсоюзов сферы образования, здравоохранения и вооруженных сил.
Эти две большие группы составляют главные протестные формы сознания, но проблема, собственно говоря, не в их базовом недовольстве буржуазным строем – это недовольство достаточно типично для многих стран. Вызов для власти составляет динамичная тенденция этого протеста к самоорганизации «снизу». Необходимость этой самоорганизации, отказ от квази-партий, лже-профсоюзов, «спущенных» сверху, риторика, напрямую направленная против официальной пропаганды, стремление решить свои проблемы в активно-протестном ключе – таков пакет вызовов, исходящих от носителей этих форм сознания. И главное – это устойчивое стремление коренным образом изменить систему общественных отношений, сложившихся в стране, чтобы привнести туда собственные интересы, очевидно меньше представленные, нежели интересы правящей группы.
Таким образом, из двух предыдущих разделов можно сделать вывод, что в стране существуют три большие группы, базово различающиеся между собой интересами, стремлениями, образом восприятия событий и доминантами принятия решений. Эти три группы форм сознания – правящая группа, представленная крупным международным капиталом, носители либерального сознания и носители коллективистского и адаптационного мышления. О том, как эти большие сегменты дифференцируются внутри – далее, в следующих разделах.
Раздел 3.
Тотальная депрофессионализация общества. Системная коррупция и кризис управления
Немаловажное значение для общества имеет не только та или иная форма сознания, но и характеристика среды, в которой эти формы пребывают, по какой линии развития пройдет динамика их развития – в позитивную или негативную сторону?
Говоря о среде необходимо коснуться такого явления как системный кризис управления, сложившийся в стране последние годы. К сожалению, обсуждая это явление, большинство публицистов и экспертов совершают основную ошибку, представляя проблемы управления лишь в виде оценки интеллектуального и эмпирического потенциала управленцев, или их знаний в области современных технологий менеджмента и стратегического планирования. Проблема находится не там.
Интегрирование казахстанской экономики в глобальный рынок, приобретение «страновой специализации» (навязанной или самостоятельно избранной – неважно), влиятельность национальных компаний в мире, появление крупных финансово-промышленных доменов и предпринимателей из списка «Форбс» говорит о том, что, при наличии соответствующих позитивных условий, казахстанцы способны управлять людьми и капиталом. Об этом также свидетельствует и динамичное развитие инвестиций abroad, причем известно, что многие наши бизнесмены предпочитают зарубежные рынки отечественным.
Кризис управления в Казахстане носит не интеллектуальный или технологический, а ярковыраженный социальный характер. Суть его можно выразить в тотальной депрофессионализации общества, охватившей практически все сферы активности населения.
В пользу этого утверждения говорят следующие факторы:
Первое. Базовой причиной возникновения кризиса управления является общая культурная маргинализация общества, источником которой в свое время послужили нестабильность в сфере образования и откровенное падение его уровня, а также обрушение требований к канонам гуманитарных наук, влияющих на становление мировоззренческих ценностей. Здесь важно обратить внимание на то, что под маргинализацией культуры подразумевается не достижения в области литературы и видов искусств, а падение общих поведенческих, морально-эстетических ценностей культуры поведения, воспитания и снижение степени влияния науки, литературы и искусства на формирование этих ценностей.
К общекультурным проблемам необходимо добавить то, что казахстанская нация на сегодняшний день не создала оригинальной, имеющей собственное лицо «городской культуры». Прежде всего, казахской. Это нисколько не отражает масштабы урбанизации и миграции населения Казахстана в крупные города.
Второе. Другой причиной депрофессионализации являются те процессы миграции в обществе, которые влекут за собой деклассирование бедного городского и сельского населения и превращение их в городских пауперов. Этот процесс обусловлен высоким спросом на временную неквалифицированную рабочую силу, разовые платы за применение которой часто превосходят месячную зарплату некоторых бюджетников. Сюда же можно отнести широкий слой самозанятых «шопников», состоящих, как правило, из деклассированных представителей рабочих специальностей, мелкой интеллигенции и предприимчивых выходцев из села.
Предыдущие два фактора достаточно типичны для переходных экономик и для общества с высоким уровнем урбанизации и миграции. Далее же последуют те факторы, которые специфичны именно для Казахстана.
Третье. Закрытость реального сектора для широкого круга предпринимателей и бюрократизация общества привели к значительному сужению независимой частной инициативы. Это в свою очередь привело к ситуации, когда лучшим бизнесом становится госслужба. На государственной службе можно решать две проблемы – осуществление протекционизма в пользу своего бизнеса и организацию коррупции. Из-за этого мы постоянно наблюдаем за тотальным переходом бизнесменов различного уровня на государственную службу.
В результате произошло привнесение в государственное управление принципов и целей бизнеса, ориентированных не на исполнение служебных обязанностей, а на получение доходов. Более того, сращивание крупного бизнеса и госорганов (олигархия) превратилось в извлечение системной и воспроизводящейся прибыли (системная коррупция) и перераспределение ее внутри власти по направлению «снизу вверх» (системная альтернативная экономика). Эта экономика «отката» обладает своим внутренним квази-правом, этикой и целеполаганием, и действует по самостоятельным правилам, далеким от государственных интересов.
Можно утверждать, что большинство госорганов превращено в подконтрольные олигархиям филиалы бизнеса. Когда большинство руководящих должностей оценивается с точки зрения коррупционных возможностей, на их занятие направляются персоны, отобранные не по принципу профессионального соответствия, а по лояльности группе влияния.
Таким образом, непрофессиональный наем доминирует практически по всей вертикали государственного управления. Если сюда добавить традиционное кумовство и принцип подбора по национальности, то объемы непотизма становятся весьма впечатляющими.
Четвертое. Разъедание государственнической идеологии в силовых структурах вообще носит характер катастрофы профессиональных нравов. Поскольку служащие там связаны субординационной иерархией, понятиями чести мундира и преданности ведомству, то бичом психологической обстановки в силовых органах является раздвоение ориентиров между честью мундира и бизнес ориентированной идеологией.
Проблемы силовых органов сегодня очевидны для широких кругов общества. Разворачивающиеся на его глазах бескомпромиссные межведомственные столкновения совершенно недвусмысленно трактуются обществом как борьба за экономические сферы влияния. В глазах граждан главным мотивом поведения практически всех представителей силовых органов является выгода и только выгода.
Пятое. Все эти явления сформировали среди чиновников различного ранга тотальное господство психологии «временщичества». Эта психология легла в основу того, что сегодня вся вертикаль управления не генерирует воспроизводящихся, долгосрочно функционирующих систем – ни в сфере профессиональной подготовки и продвижения специалистов, ни в сфере обеспечении преемственности традиций, применения технологий, стабильных и долгосрочных взаимоотношений аутсорсинга, взаимодействий со смежными отраслями и пр. Кстати, следует заметить, что пока введение ответственных секретарей ни в коей мере этих проблем не решило, а только создало дополнительное бюрократическое звено.
В начале раздела мы говорили о внешних успехах казахстанского бизнеса. Как же сосуществует между собой эта успешность с вышеописанными проблемами депрофессионализации общества?
С одной стороны, такая ситуация, когда в рамках одной экономики сосуществуют успешный сектор и откровенно аутсайдерский, еще в 70-х годах определена как «инкрустированная экономика». Классически линия «инкрустации», т.е. «встроенности, но несливаемости», проходит между работниками транснациональных корпораций и отечественными специалистами. Характерным показателем «инкрустированной экономики» является разрыв в несколько порядков между зарплатами одинаковых специалистов в иностранной компании и отечественной. Существует и ряд других отличий.
С другой стороны, уже можно утверждать, что сегодня и флагманский сектор начал испытывать сильнейший дефицит квалифицированных управленцев. В сущности, сегодня крупные компании больны всеми классическими коррупционными болезнями по всей вертикали, а частный иностранный сектор ориентирован на ввоз даже уборщиц из-за рубежа.
Многие из числа описанных явлений являются показателями присутствия в стране признаков «роста без развития», свидетельствующих о наличии в стране крупных стагнирующих сфер. Однако последующий раздел продемонстрирует то, что стагнация все же не характерна для нашего общества, скорее напротив – наблюдается активная динамика процессов и наличие сильных катализаторов этой динамики.
Резюмируя идеи этого раздела, можно подойти к пониманию того, почему к 2008-му году, «пиковая фаза» развития политического строя Казахстана не стала его «точкой торжества», которой логично должен стать юбилей г.Астана в этом году. К сожалению, эти мероприятия рискуют стать точкой максимального разрыва между официальной пропагандой и общественной мыслью.
Раздел 4.
Общество и кризисные явления
В предыдущих разделах мы рассматривали факторы протестности основных форм сознания и негативные черты среды, в которой эти формы существуют и развиваются. Теперь, как уже писалось выше, речь пойдет о факторах, катализирующих процессы в обществе в сторону возможного активного раскачивания ситуации – о кризисах и кризисных явлениях.
Вообще вопрос понимания того, есть в стране экономический кризис или нет, является неким водоразделом между официальной риторикой и восприятием широкой общественности. Здесь мы предоставляем следующий логический ряд оценки явлений.
Гуманитарная сфера
Вначале рассмотрим те кризисные проявления, существование которых не вызывает сомнений. Речь пойдет о гуманитарном, или более точно – «ментальном кризисе моральных ценностей». Во многом этот кризис проявился через призму убийств видных политиков – Нуркадилова и Сарсенбаева, деятелей бизнеса – Тимралиева и Хасенова, а также в ракурсе явления, получившим название «рахатгейт».
На сегодняшний день существует тенденция объединить этот ряд событий в один процесс. В принципе от такого объединения суть влияния каждого события в отдельности на социально-психологический настрой граждан не уменьшается.
Говоря об этих громких преступлениях, становится очевидным то, что представление в свое время обществу невразумительных заключительных версий следствия, послужило катализатором для начала самостоятельного компенсаторного поиска общественностью ответов на вопросы «почему?», «за что?», «кто реальный организатор?». Эти простые вопросы быстро привели к развитию остро критичного оценочного подхода к официальным версиям, и запустили в общественном сознании необратимые процессы.
Массированное исследование «связи явлений» со стороны журналистов, экспертов, аналитиков, привело к пониманию обществом основной проблематики в государстве, казалось бы, никак не связанной напрямую с этими преступлениями. Общественная мысль сейчас находится на стадии чёткого формулирования этой проблематики для себя, и, самое важное то, что происходит это абсолютно параллельно официальной пропаганде. Практически, пропаганда и развитие общественной мысли сегодня максимально удалены друг от друга со времени начала строительства Независимости. Об этом прежде всего свидетельствуют реальные рейтинги доверия официальным СМИ и политическим фронтменам.
Вообще, всегда неопределенность формулировок официальной пропаганды запускает механизм роста общественного самосознания в сторону, совершенно противоположную от популярности власти. Именно такова специфика феномена дела Гонгадзе в Украине.
Разрушительную роль играет и «грязная» волна компроматов, запускаемая «бывшим зятем» в информационное пространство Казахстана. Сброс компроматов вновь остро актуализировал проблему «казахгейта», перешедшего было в рутинную фазу.
В стереотипном восприятии рядовым казахстанцем скандала с Алиевым, важнейшую роль играет то, что в нем фигурирует член семьи Президента, сформировавшийся в его близком окружении и на государственной службе. Если вспомнить, что появление партии «Асар» позволило всем зарубежным и отечественным экспертам судить о расколе элит, то «рахатгейт» имеет гораздо большую глубину разрушающего воздействия.
В добавлении ко всему, гибель персон из политики и высокого экономического менеджмента подорвало уверенность рядовых граждан в собственной безопасности жить, проявлять предпринимательскую и политическую инициативу
В числе мероприятий недавнего времени, вызвавших резко негативное восприятие населения, можно выделить три ключевых – перевод разовых государственных средств строительным организациям, предстоящее приобретение у них же 8 тыс. квартир в рамках госзаказа и выкуп государством акций ЗАО «Хабар» за 100 млн. долларов США. Особенно экстравагантно смотрится последняя сделка на фоне обвинения Алиева в государственном перевороте, потому что основной вопрос, который обсуждается – это не «кто восстановил государственный контроль над телевизионным ресурсом», а «кому заплатили эти деньги и за что?» За госпереворот?
Такое неприятие официальной пропаганды влечет за собой общий процесс, обладающий весьма отчетливыми чертами кризиса. В массовом восприятии произошла фундаментальная десакрализация образа власти и Главы государства. Это произошло из-за нескольких факторов – (1) поскольку скандалы сконцентрированы именно на властном Олимпе и конкретно в семье Н.Назарбаева, (2) из-за того, что ответственность за все негативные явления общества целиком сведена на личность Главы государства, (3) из-за того, что часто в уста Президента вставляются непопулярные решения по вопросам, носящим вообще внутриведомственный характер (вроде «праворулек» или зарплат в Казахтелекоме).
В итоге, фундаментальный удар был нанесен по способности правящей группы предъявлять обществу уверенное нравственное кредо, что является основой легитимности любой власти. Способность же формировать нравственные основы в свою очередь является главным качеством лидера «государства общенациональных интересов», а утеря этой способности свидетельствует о кризисе власти.
Экономика и общество.
В том, что касается комплекса событий в экономике, данному разделу предстоит сформулировать ответ на вопрос: «с чем все-таки сталкивается общество – с классическим капиталистическим кризисом, просто с кризисными явлениями, или имеет место нечто другое?»
Официальная пропаганда, в частности ряд выступлений Главы государства, вообще отрицает наличие кризисных явлений, утверждая, что происходящее является не более чем приведением в порядок рыночных механизмов или оздоровлением рынка через уничтожение чисто спекулятивной составляющей. В основном подразумевается ликвидация «пузыря» в торговле недвижимостью. Обществу предложен некий «враг», создающий финансовые «пирамиды-пузыри» и безмерно обогащающийся за счет простых людей.
В качестве этих «врагов» выставлены риэлторы-спекулянты и банки, позволившие себе беспрецедентное раздувание внешних заимствований. При этом строительная сфера выведена на нейтральный план, в качестве чуть ли не пострадавшего, чтобы обосновать вливание дополнительных государственных средств в нее.
У пропаганды и анализа различные задачи, поэтому эту версию мы будем рассматривать лишь как фоновую.
Успехи экономики всегда занимали ключевое место в официальной доктрине государственного строительства. А банки и строительные кампании представляли собой объект особой гордости власти, поскольку носили ярко выраженные публичные черты успеха капитала национального происхождения. Практически лучшие национальные управленцы выдвинулись на высокие государственные должности, так или иначе, из финансово-банковской сферы.
По этой причине любой негатив, касающийся банков и строительства, болезненно проецируется на благополучное восприятие экономической доктрины Казахстана. Такое понимание банковской сферы в виде стержневого столпа не только экономики, но и политики является объективным – достаточно только вспомнить, что механически кризис 2001-го года начался с вопроса о перераспределении долей в БТА.
Уже говорилось о том, что кризис в гуманитарной сфере запустил механизмы критического и аналитического восприятия обществом явлений социальной жизни. То же самое касается и экономики, поскольку львиная доля населения Казахстана так или иначе оказалась связана с банками и рынком недвижимости. Только в этом случае вопрос удовлетворения морально-нравственный запросов сменяется на более жесткий вопрос реального выживания.
Таким образом, нас интересует не чисто экономическая сущность «ипотечного кризиса» или «кризиса ликвидности», а его мультипликативный социальный эффект, производимый на казахстанское общество. Зависимость казахстанской экономики от глобальных трендов мы здесь тоже не рассматриваем.
Черты же этого негативного мультипликативного эффекта видны невооруженным глазом. Среди них можно упомянуть – резкое снижение деловой активности, падение покупательной способности людей и рост цен, резкое сокращение внутренних инвестиций, связанное с все большей неспособностью банков выступить партнерами отечественного инвестора. Уже стойко наметилось снижение заработных плат в коммерческом секторе, происходят сокращения, увольнения, неоплачиваемые отпуска. В Астане резко ухудшилась криминогенная ситуация за счет «непристроенных» строительных рабочих и гастарбайтеров. И так далее, и так далее.
Есть ли в казахстанской экономике рыночные механизмы, которые позволяют запуститься воспроизводству позитивных явлений, и избежать негативных последствий? Сумели ли мы в свое время сгенерировать эти самые системы «самовытаскивания»?
О рынке
Прежде чем ответить на вопрос, содержит ли конкурентный рынок механизмы саморегуляции необходимо найти ответ на другой вопрос – а есть ли в Казахстане то поле, где эта свободная конкуренция обитает? Конечно же, это тема отдельного экономического исследования, но, исходя из характера нашей экономики, где государство слилось с бизнесом, такое пространство представляется мизерным.
Крупный бизнес непосредственно управляется политической властью, региональный подчинен местным олигархиям – «акимовским доменам». Завтра другая часть регионального бизнеса будет организована в СПК. Малый и средний бизнес аффилирован с крупными ФПГ и сгрудился вокруг обеспечения нацкомпаний. Мелкие частные фермеры неконкурентны даже на уровне поставок на рынок, не говоря уже об обеспечении объектов общественного питания и магазинов продуктовых сетей. Даже рынок жилья был конкурентным достаточно условно. Практически, свободное пространство существует только на уровне «самозанятых» – на барахолках. И те подвержены потрясениям со стороны политики таможни.
Иными словами, рынок слишком зарегулирован государством и около-государственными структурами, чтобы иметь собственные механизмы саморегулирования, способные дать позитивный эффект в национальных масштабах. Это позволяет утверждать, что мелкий бизнес будет в создавшихся условиях играть только роль потерпевшего, которому придется испытать на себе все удары кризиса. А это массовая среда. По данным 2004-5-х годов количество только деклассированных «самозанятых» составляло примерно 2 млн. чел., сосредоточенных в городах.
О государственном регулировании.
В такой ситуации напрашивается вывод, что решать проблемы макроуровня традиционно придется реализовывать с помощью методов государственного регулирования.
Тогда возникает новый ключевой вопрос – насколько процессы, протекающие в самой властной вертикали, позволят реализовать поставленные цели и задачи наиболее эффективным способом? В чьих интересах сегодня сработает весь механизм выявления проблем, предложения путей их преодоления и принятия решений в окончательной конфигурации?
Прежде чем перейти к анализу трендов во власти, сформулируем выводы предыдущих разделов. Сегодня можно утверждать, что о системности кризисных явлений, начавших свой марш по Казахстану, говорит не столько экономическая суть частично «импортированного» кризиса ликвидности, сколько среда системных общественных отношений с громадным количеством накопившихся и воспроизводящихся проблем. Это позволяет характеризовать весь комплекс негативных проявлений, как кризис всего спектра общественных отношений, что этот кризис носит системный характер и его причины продолжают воспроизводиться.
Раздел 5.
Власть и ее внутренние противоречия.
Из предыдущих разделов, где говорилось о власти крупного капитала, могло сложиться впечатление о монолитности высшего политического руководства Казахстана через призму объединяющих интересов. Однако не нужно быть экспертом, чтобы видеть высокую динамику изменений казахстанской элиты, произошедшую за последние годы. Анализу расколов и кризисов казахстанских элит посвящено немало публицистики, но в основном она не выходила за рамки механического или чересчур персонифицированного описания явлений.
Элиты
В начале своей деятельности, в 2002-м году, ЦКТ «Репутация» посвятила целый ряд работ состоянию элит страны. В целом, они отражали основные тренды общества в тот период. Но за 6 лет произошли кардинальные изменения, и сегодня следует по-новому подойти к вопросу о том, чем отличается тот период от сегодняшней ситуации.
Элита в то время (2004 – начало 2006 года) была организована по вертикалям – по строго олигархическому принципу. Тогда в общественную публицистику вошел термин «группы влияния» – вертикально организованные финансово-промышленные группы, формировавшие окружение Главы государства.
Суть этих групп заключается в сосредоточении вокруг Президента нескольких крупных вертикалей, возглавляемых либо влиятельным политиком, персоной из бизнес-сферы, либо представителем семьи Президента. Элиты изначально формировались исключительно по феодальному принципу приближенности к лидеру страны. Группы влияния различались между собой по экономическому содержанию, были по-разному организованными, но суть их была одна.
Основными элементами структурирования ГВ были следующие – контроль над какой-либо из отраслей экономики, медиа-холдинг, марионеточная партия, сеть своих госслужащих высшего руководящего состава страны, политические фронтмены и так далее. В то время было много публикаций, рассказывающих о том, кто в какую группу влияния входит и какую отрасль курирует. Внутри групп доминировали отношения вассалитета, согласно которому «офицеры и солдаты», являясь вассалами патрона, все больше теряли ориентир на служение лидеру страны и общенациональным интересам.
Некоторые аналитики ошибочно трактуют термин «влияние», как воздействие на общество. В большей же степени это «влияние» подразумевало использование только одного канала, но самого надежного –на Президента страны, обладающего всей мощью административного ресурса, силой и волей принятия политических решений. Используя свою приближенность, группы занимались активным лоббированием своих интересов перед Президентом, добиваясь для себя все больших преференций и сфер влияния. Отсюда и традиционная для Казахстана крайне высокая персонификация политики.
Цель такого лоббирования очевидна – каждая группа влияния лелеяла надежду, что в определенный момент Президент признает одну из них безусловным лидером и назначит ее в качестве элитообразующей в будущем. Само собой, в виде следствия, подразумевался автоматический подрыв влияния остальных олигархических вертикалей.
Описываемый период характеризуется как время бескомпромиссных межолигархических войн, которые велись с помощью всего ресурсного арсенала, имеющегося у групп. В публичной сфере использовались медиа-структуры, политтехнологические центры, армии всевозможных журналистов, экспертов, публицистов и аналитиков. Особым явлением стали партии, которые тоже были организованы по олигархическому принципу. Для непубличной сферы характерны межведомственные войны, бескомпромиссные интриги и противостояния во всех ветвях власти, где олигархии были, как правило, представлены пропорционально.
Особым фоном для такой расстановки сил стала выборная кампания 2005 года. Под предлогом противостояния оппозиции, якобы вынашивающей планы «цветной революции», ГВ старательно наращивали свои мускулы политической борьбы, будучи каждая в отдельности несопоставимой по мощи с общим ресурсом оппозиции. Однако оппозиция тогда сыграла роль внешнего стабилизирующего фактора для клановой организации власти.
Появление «Асара» незадолго до президентских выборов наделало много шума. Его создание многими экспертами трактовалось как «раскол элит». Однако это не было расколом элит, а скорее лишь внешним крайним проявлением глубинных процессов кланового противостояния. Система продолжала быть строго вертикальной с резко очерченными границами между доменами, а война становилась все более публичной и бескомпромиссной. Опасность проекта Алиева заключалась в том, что его группа постепенно теряла принцип апеллирования к Президенту в игре «выбери меня». В силу объективных причин, понимая, что выбор вряд ли падет на них, руководством группы уже тогда постепенно продвигался в сознание «офицеров и солдат» принцип «возьмем сами».
2006 год, начавшийся с убийства Сарсенбаева, положил начало резкому изменению ситуации. В публичной политике явно выразился не фактор «кого возвысить», а фактор «кто должен быть вычеркнут из игры». Основной удар пришелся на первого подозреваемого – группу Алиева и группу Абыкаева, профигурировавшую через персону Утембаева. Информационная и позиционная война достигла крайней точки кипения.
В то время пертурбация элит начала постепенно выливаться в кардинальное нарушение баланса сил между группами влияния вокруг Президента. Вопрос о том, что Алиев попадется на криминальном способе достижения своих целей, стал вопросом времени. Скандал с «Нурбанком» обрушил одну из вертикалей групп влияния, в результате чего сегодня возникла совершенно разбалансированная внутри система, имеющая несколько ключевых черт.
Первая черта. Резко подорвался вопрос безопасности пребывания людей в чёткой принадлежности к группе влияния. Патронаж члена семьи перестал быть стопроцентно безопасной «крышей», подкрепленной на самом верху. Обычный вопрос предыдущего периода «кто – чей?» постепенно перестает занимать доминирующее положение.
Это происходит потому, что в современном понимании излишне прямая аффилированность создает опасность попадания в опалу вместе с патроном, причем по причинам, на которые представители «среднего звена» не имеют никакого влияния. Эти причины находятся на уровне окончательного принятия политических решений. Патрон может попасть в немилость к Главе государства и тогда вся вертикаль может пострадать, как карьерно, так и экономически.
Другая причина – это, как ни странно, отсутствие внутренней олигархической идеологии. Раньше такой идеологией была конкуренция кланов в виде претензий на будущее. Однако действительность показала, что успешность клана зависит далеко не от конкурентоспособности команды и отдельных «офицеров», а от фаворитизма в высшем звене, представляющего собой крайне неустойчивую среду, чтобы быть опорой. Да и Президент точно не спешит какому-то клану отдавать предпочтение – это очевидно.
Второе. Определенную, но пока не решающую роль играет и публичная борьба с коррупцией. Несистемность этой борьбы, больше похожей на выдергивание звеньев, нежели ликвидацию системы в целом, демонстрирует то, что патроны особо не будут усердствовать в деле защиты безопасности своих «солдат», чтобы увести их от возможного уголовного наказания. В результате обрушения вертикалей частично пострадали каналы системной коррупции, отвечавшие за перемещение средств снизу вверх.
Контрэлиты.
В сложившихся условиях разрегулирования вертикалей важнейшим вопросом становится следующий – какова конфигурация контрэлиты в нашем обществе?
Формальная оппозиция. Для начала необходимо прийти к пониманию вопроса, является ли «эпицентром» контрэлиты сегодняшняя формальная оппозиция.
Раннее уже отмечалось, что оппозиция носит в основном либерально-демократический характер. Несмотря на то, что ОСДП выступает на политическом поле с амбицией распространить свой контроль над коллективистским мышлением, пока это не удается по простой причине – партия не является социал-демократической по организационной сути. Как известно, социал-демократические партии отличаются от классических буржуазных тем, что существуют не за счет спонсорских вливаний, а за счет взносов. Именно это является залогом того, что социал-демократическое общественное объединение не превратится в инструмент выражения личных амбиций лидеров (как это происходит в «Азате»).
Коммунисты Абдильдина носят явные признаки «стареющей партии». Все попытки омоложения рядов закончились для них провалом, так что, скорее всего коммунистическое движение является инерционным фактором прошлого. Остальные партии являются откровенным результатом политтехнологических решений и результатом некоторого перегрева финансовых средств в политике.
Во всех случаях эти оппозиционные ряды не контрэлитарны по своему содержанию, а являются лишь последствием расколов элит прошлого. Оппозиция сегодня кардинально отброшена от ресурсов влияния на общество именно по этой причине – общество воспринимает их в качестве осколков властной элиты – субстанции чуждой для широких масс. А элита без обладания ресурсами неинтересна, даже при наличии достаточного количества финансовых средств – эти средства явно не конкурентны со средствами крупного властвующего капитала. Но все же главной характеристикой «элитарности» оппозиции является то, что она наравне с клановыми группами действует по принципу апелляции к Президенту, иными словами, тоже участвует в игре «выбери меня в качестве системообразующей группы в будущем».
Суть же настоящей контрэлиты заключается в том, что она всегда находится внутри власти, сидит на тех же ресурсах, интегрирована в те же процессы, что и власть. Оппозиция же, будучи оторванной от ежедневной рутины созидания, постепенно деклассируется и теряет управленческую квалификацию.
Контрэлита сегодняшнего дня.
Слой, который мы условно назвали «средним исполнительным звеном» или «офицерами» групп влияния, постепенно начинает приобретать отчетливые черты контрэлиты. Это дает основание рассуждать о появления нового источника пассионарности, обладающего сильным интеллектуальным и организационным ресурсом, но не ставшего пока на ощутимые организованные рельсы.
Интеллектуальный потенциал описываемого слоя является высоким, потому что именно они непосредственно осуществляли рутинную и прорывную деятельность по расширению влияния той или иной олигархии.
Почему эта тенденция направлена именно на формирование контрэлиты, а не на интегрирование в элиту, что представляется более естественным? Прежде всего, по вопросу собственности. Как правило, «офицеры» не являются крупными независимыми буржуа по разным причинам – либо в основном были заняты на государственной службе, либо их предприятия зависимы от старых групп влияния. Во-вторых, им практически и не светит пополнить ряды высшей элиты, поскольку это уже передел результатов первоначального капитала. В-третьих, – являясь непосредственными практиками и исполнителями, они интенсивнее всех сталкиваются с негативом, а часто и с абсурдными последствиями от общественных отношений сложившихся в верховной элите. Не будет преувеличением утверждать, что они сильно тяготятся той частью отношений, которые являются феодальными по сути. Назвать их мелкобуржуазной средой тоже трудно, поскольку им постоянно приходится решать задачи национального масштаба.
Таким образом, сегодня власть крупного капитала неустойчиво стоит на опоре потенциальной контрэлиты, зона влияния которой начинается прямо возле дверей кабинетов Ак Орды. Отсюда главный вопрос и главное содержание работы с контрэлитой – кто и как ее сможет организовать или наоборот – рассегментировать по разным лагерям – но, в любом случае – кто воспользуется этим ресурсом? Пока этот слой обладает невысоким потенциалом к объединению против высшей элиты – очень сильны в памяти доменные границы, когда-то разделявшие их. Однако объединение «за» очень трудно достигается, нежели объединение «против».
Существует еще один важный фактор, который нельзя обойти стороной – возрастной или поколенческий. «Среднее звено» – это в основном это люди из поколения 30-45 летних, в то время как крупная буржуазия и высшая власть представлена в большей степени поколением более старшим. Этим объясняется большая популярность в свое время доменов Кулибаева и Алиева – будущее для его членов имело вполне ощутимые биологические характеристики. Этим объясняется главный тренд в системе мышления «среднего звена» – будущее реально представляется в виде грядущей смены поколений и, как следствие, ожидается неизбежная смена «правил игры» в политической сфере. Пока это воспринимается только как вопрос времени, но возможно перерастет и в стимул активности.
Таким образом, сегодняшняя потенциальная контрэлита представлена пятью основными признаками, отличающими ее от высшей власти:
- Отношением к собственности – не является крупно буржуазной и понимает, что перспектива ею стать при сегодняшней власти нереальна.
- Возрастной принцип – естественное ожидание смены поколений форматирует базовые взгляды на поведение и целеполагание.
- Ресурсный – ориентир на профессиональный рост, как главный ресурс собственного продвижения вверх по социальной и служебной лестнице.
- Проявившийся недавно тренд на нежелание формироваться в небезопасную патронажную систему.
- Неорганизованность в отсутствии внятного политического организатора.
Сегодня можно говорить об интуитивном поиске «средним звеном» новых организационных принципов по вертикали. Это происходит в условиях все большего роста пассионарности «среднего звена управления» в его стремлении изменить существующие общественные отношения.
Раздел 6.
Роль Администрации Президента.
Какую практическую ценность может извлечь из вышеописанного новый состав Администрации Президента?
Прежде всего, АП, являясь центром политической власти в стране, носит в себе все проекции современной элиты. С одной стороны в ней представлены представители крупного буржуазного сектора с соответствующими интересами, с другой – люди с принципиальными чертами поколенческой контрэлиты.
Что послужит основной доминантой в развитии внутреннего содержания этого института – стремление пополнить ряды высшего сословия, сформировать собственную группу влияния или пойти по какому-либо другому пути? Как люди из центра политической власти осуществят свои цели – через достижение партнерства с обществом или предоставят ему продолжать дальше двигаться самостоятельным путем поиска решений для себя? Вопрос работы с угрозами и вызовами, формирующимися в общественной мысли, представляется фундаментальным, поскольку опыт прежних лет говорит о том, что, к сожалению, у нас все возможное всегда почему-то становится неизбежным.
В любом случае любая программа реализации собственных задач основывается на первоначальном целеполагании. Формулирование целей новым составом АП, на наш взгляд, должно осуществиться в нескольких направлениях.
Первое направление находится в кристаллизации АП своей роли среди формальных государственных институтов. Являясь, как уже отмечалось, сердцем политического управления страны, АП следует генерировать систему управления «большими стратегическими волнами», избегая подмены собой деятельности в «коротковолновых процессах». В наших условиях, когда средний срок работы правительства составляет 1,5 – 2 года, что, по сути, является «короткой волной», АП необходимо избежать чрезмерного втягивания себя в оперативное руководство, что неизбежно притягивает к себе и ответственность за его результаты.
Предыдущий состав Администрации, к сожалению, сохранял принципы управления, сложившиеся в период выборной кампании 2005 года, когда неизбежность вмешательства в работу всей вертикали управления носило характер исторической необходимости. Однако по завершении выборной кампании, «закручивание гаек» потеряло свой смысл, но по инерции сохранялось. В результате произошло существенное мельчание задач, решаемых АП и выносимых на высший уровень. Например, на уровень совещаний Совбеза.
Второе направление – это выстраивание партнерства с обществом. Поскольку мы имеем дело с капиталистическим обществом, то базовым принципом может стать вполне профессиональный принцип социальных сделок, которые позволяют становиться с различными сегментами общества на взаимовыгодные позиции. Тактика социальных сделок – это основа мотивированного консенсуса в обществе капитала. Только нельзя продолжать практику одностороннего нарушения правил.
Отсутствие партнерства с обществом отнюдь не означает того, что власть окончательно утеряла способность становиться на интересы «общенационального государства» и всегда реализует только свои сословные задачи. Опасность заключается в том, что даже позитив, исходящий от власти и адресованный обществу, падает на почву недоверия и изначального негативного восприятия. Это в значительной мере ставит под сомнение успех любых крупных политических кампаний в стране.
Следует прекратить генерировать прецеденты создания социальных конфликтов «на ровном месте», часто основывающихся на том, что пренебрежение общественным мнением принимает повсеместный характер в рядах исполнительной и других ветвей власти.
Поэтому необходимо наладить сеть исследования общества, постоянный мониторинг общественного мнения. Это даст возможность моделировать долгосрочную динамику развития общественной мысли. К сожалению, сегодня многие информационные кампании готовятся и подаются обществу в виде «горячих пирожков». Поэтому эти кампании рассчитаны на сиюминутный эффект и терпят поражение на стратегическом уровне.
Иными словами, целями политического руководства является достижение (или восстановление) устойчивой ситуации «власть и общество – стабильные партнеры», ликвидация очагов уязвимости имиджа лидера государства, успешный развод протестных векторов по различным коммуникативным направлениям.
Третье направление касается моделирования процессов, происходящих в элите общества. Здесь главной целью является восстановление всех утерянных преимуществ центральной персоны политического строя – Президента. В то же время авторитет Главы государства, его личные качества и политическая воля являются и главными ресурсами в борьбе против негативных явлений нашего общества.
В этой области стоит задача уберечь Главу государства от доминанты крупно буржуазных решений и от мельчания задач, выносимых в публичную сферу и окончательно восстановить ориентир на строительство «государства общенациональных интересов». Решить эту задачу поможет достижение равноудаленности олигархических элит от Президента. В идеале должна быть достигнута формула, которая сформулирована в России Евгением Примаковым в одном из недавних интервью. В изложении сути она звучит так – «У нас есть крупный бизнес, и мы им гордимся, но в России теперь нет олигархий – крупного бизнеса, сросшегося с властью и диктующего ей свою волю». Понятно, что ситуация в России несколько идеализируется Е.Примаковым. Но здесь важно содержание и безусловная привлекательность политического тренда для многих слоев казахстанского общества и демонстрация уверенности в его последовательной реализации. Эти задачи вполне соответствуют уровню полномочий АП.
Что касается другого аспекта работы с элитами – выше уже упоминалось о выстраивании стратегии действий по отношению с тем слоем, который постепенно может приобрести окончательно сформировавшиеся черты контрэлиты. В этом направлении следует учитывать не противоречия интересов группы, а запас пассионарности, интеллекта и поиска своего места в процессе изменения общественных отношений.
Объединяющим фактором всех направлений является видение будущего политического строя через призму так называемой «Проблемы 2012», связанной с окончанием очередного срока президентства Н.Назарбаева. Независимо от того, какие задачи будет ставить перед собой власть в этот период, необходимо заранее осуществлять деятельность по моделированию политических процессов внутри казахстанского общества. Ведь сегодня очевидно одно – глубина разрушительного эффекта, исходящего от межолигархических войн способна подорвать систему безопасности страны до основания. Абсолютно разрушительной может стать борьба за верховную власть. Уже сегодня в рядах высшего руководства страны заметны признаки восстановления войн двух-трехлетней давности на уничтожение клана-претендента. Необходимо воспользоваться временным разрушением вертикальной олигархической организации нашего общества, может даже продолжить его стимулирование, чтобы ситуация не повторялась впредь.
В завершении – коротко о методах и способах работы АП в свете предстоящих задач. Этих способов, в сущности, три – рутинный, прорывный (чрезвычайный) и спорадический способы управления. Очевидно, что госструктурам больше присущ рутинный метод, хотя, к сожалению, сегодня у нас торжествует именно спорадический. Из доклада в целом видны те фронты, которые может закрывать собой деятельность предлагаемого коммуникативного центра. Необходимо рассматривать деятельность специальных групп при АП в виде долгосрочных проектов, рассчитанных на решение задач стратегического характера. Возможно, речь в будущем пойдет об организации сети аутсорсинговых закрытых групп, способных организовывать как рутинную деятельность, например, по постоянному мониторингу общественного мнения, так и прорывную – по формулированию и реализации крупных политических кампаний. Однако об этом речь пойдет не в этой работе.
(цикл «Власть и общество», 2008г.)
Данный доклад посвящен внутриполитической проблематике текущего периода через призму фундаментальных аспектов развития общества. К этим аспектам можно отнести социально-психологические настроения казахстанцев в условиях столкновения с новыми кризисными явлениями, а также систему функционирования и динамику развития интересов основных социальных групп.
Казахстанское общество, при всей молодости своего независимого развития, является достаточно развитым и структурированным в социальном плане. Казалось бы, интересы его сегментов имеют стабильный характер. Но при тщательном изучении становится очевидным, что сегодня происходят не только их временные изменения, но и смена векторов направленности, имеющая фундаментальный характер.
Причинами смены направлений являются противоречия, которые общество неизбежно накапливает в процессе своего развития. Источниками такого накопления являются не всегда причины внутреннего характера. На текущий момент катализатором к выходу некоторых из них на поверхность послужил привнесенный извне кризис ипотечного кредитования, который на Западе уже привел к появлению протестной активности (забастовки в Англии).
Важнейшим вопросом доклада является – каковы источники формирования реальной социальной опоры Президента, не как политического института, а как исторической личности, перед различными вызовами сегодняшнего дня и их возможными последствиями в перспективе.
Раздел 1.
Внешние признаки противоречий общества
Сегодня очевидно, что в нашей стране накопился ряд существенных противоречий между властью и обществом. Эти противоречия обладают динамикой развития в негативную сторону и определенными внешними проявлениями, по которым можно судить о их развитии в ближайшем будущем. Среди них можно выделить следующие:
Происходит расширение протестных групп населения и их новая диверсификация. Раньше протестность формировалась вокруг формальной оппозиции, и ее риторика касалась неприятия результатов первоначального накопления капитала.
Поэтому основная линия недовольства проходила во внутриэлитной сфере. Даже коммунисты и пенсионеры, по сути, представляли собой по мировоззрению реваншистские слои старой советской элиты, оторванной от процессов формирования рыночных отношений в стране. Сегодня сознание протестных групп порождено негативными проявлениями экономических трудностей и некоторыми непопулярными решениями властей, получивших отрицательный социальный резонанс.
Протестность в стране значительно расширилась за счет качественных изменений в общественном сознании. Это заметно по многочисленным публикациям в прессе, материалам полемики на круглых столах, конференциях и пр. Рост совокупной общественной мысли сегодня вышел на уровень системного критического переосмысления политического и экономического курса властной элиты и позволяет давать ему все более квалифицированную оценку. Такой рост формирует собой новый качественный вызов правящей группе, ранее получавшей безусловный кредит доверия. Стандартные технологии манипулирования общественным сознанием и прямая пропаганда фактически перестали участвовать в формировании общественного сознания, поскольку резко потеряли свою аргументированность и несоответствие конкретным интересам социальных групп. Они существуют параллельно явлениям, разворачивающимся в казахстанском обществе. В результате власть в публичной оценке ситуации значительно отстает от общества, проигрывая психологическое лидерство в общем политическом процессе.
Несмотря на то, что протестные формы сознания возникали на основе конкретных проблем социального характера – ипотеки, коммерческих займов, падении требований к технике безопасности на производстве, нарушений в балансе найма иностранной и отечественной рабочей силы и пр., – сегодня эти формы достаточно быстро политизируются. К сожалению, эта политизированность направлена непосредственно против сложившейся власти, элит общества, принципов их управления государством и общественных отношений, являющихся основой политического строя.
Тенденция общего неприятия власти быстро становится доминирующей в обществе. Об этом свидетельствуют ряд социологических опросов, заполнивших практически все СМИ, и которые демонстрируют растущий абсентеизм по отношению к власти, а также падение общего уровня доверия к ней. Тенденция усиливается еще и тем, что с формированием общественного мнения объективно не справляются основные модераторы государства. Это, прежде всего, правительство, партия Нур Отан и ответственные подразделения Администрации Президента, а также официальные СМИ.
Существенную роль в подрыве авторитета и дееспособности власти стали внутриэлитные скандалы, связанные с разоблачением, как государственных преступников («Рахатгейт»), так и коррупционеров высшего звена руководства. Существующие формы борьбы с коррупцией не находят широкой общественной поддержки по той причине, что воспринимаются как косметические шаги, не способные оздоровить содержание общественных отношений, сложившихся в стране. Это привело к тому, что, несмотря на появление ряда громких антикоррупционных дел, в обществе развились устойчивые пораженческие настроения по отношению к успешности борьбы с коррупцией и по эффективности государственного управления в интересах народа.
Мультипликативный эффект от новых проблем экономического характера продолжает усиливаться на фоне практической недееспособности правительства в разработке программ по оздоровлению ситуации. Причина кроется, скорее всего, в его оторванности от реальных интересов граждан, в увлечении чисто монетаристскими способами решения проблем, а также в неумении наладить диалог с обществом, с которым правительство по своим целям должно являться союзником в сложившемся положении. Впечатление о его недееспособности подкрепляется неспособностью осуществить административную реформу, изменить ситуацию в правоохранительных органах и добиться конкретных успехов по большинству показателей развития страны.
Фактически, главным трендом массового общественного сознания на сегодняшний день становится формулировка «власть и общество – не партнеры». Этот тезис отчетливо кристаллизировался в последнее время в среде экспертов, аналитиков, комментаторов и лидеров мнений. Тезис достаточно быстро популяризуется в массовой среде, и динамично набирает силу. При этом официальные политические комментаторы давно перешли на политику двойных стандартов – то, что произносится «на кухне», кардинально отличается от того, что озвучивается в публичной сфере. Набирает силу понятие «общего кризиса государственного управления» в стране.
Это внешние признаки, которые сегодня являются оценочной базой в понимании ситуации, сложившейся в Казахстане. Необходимо отметить то, что температура общественных отношений формируется не только из отечественных каналов информации. Внешние СМИ и аналитические центры зарубежных стран активно поддерживают и развивают затронутые выше темы, поскольку анализ ипотечного кризиса и его последствий является зоной их непосредственных интересов в мире глобализма и интегрированных общественно-экономических связей.
Список внешних негативных проявлений далеко не полон, их квалифицированное перечисление не входит в цели данной работы. Главной задачей доклада является выявление фундаментальных и скрытых социальных причин происходящих явлений, с целью разработки эффективной программы по преодолению сформировавшихся вызовов и по устранению предпосылок, способных усилить негативные факторы в будущем.
Раздел 2.
Круги интересов различных социальных групп.
Очевидно, что в системе оценок текущей ситуации очень сильно доминируют эмоциональные оценки. Прежде всего, в силу того что развитие любых кризисных явлений всегда основано на психологическом факторе. Сила эмоций, собственно, во многом и определяет спорадичность принятия многих решений в правительстве.
Необходимо избавиться от излишней эмоциональности и проследить влияние на развитие факторов, носящих фундаментальный характер. К таким факторам можно отнести интересы социальных групп, формирующие поведенческую основу общества и способы принятия решений.
К тексту доклада приложены таблицы основных групп интересов, которые ранее представлялась, как правило, в виде вертикалей. Сейчас более актуальной выглядит «кольцевое» отражение ситуации, так как речь идет о блокировании одними группами интересов других, при сохранении принятия ключевых решений Президентом. В Таблице № 1 представлены основные интересы, сегментирование и внутренне содержание которых будет раскрыто далее.
Основная цель доклада заключается в том, чтобы чётко кристаллизировать ту социальную базу, которая является потенциальны союзником социально-политических интересов Президента в сложившейся ситуации. Также предстоит определить круги, противодействующие реализации и объединению этих интересов.

Круг интересов групп влияния,
крупного капитала и административной элиты
О том, что вокруг Президента сложились устойчивые сетевые корпорации олигархического характера, прозванных «группами влияния», существует большое количество докладов и публикаций. Своим происхождением эти группы целиком и полностью обязаны Главе государства и, казалось бы, именно поэтому их базовые интересы должны совпадать с президентскими. Прежде всего, по сохранению политического строя и сложившихся общественных отношений. Однако на деле это происходит далеко не так.
Термин «группы влияния» появился в 2003 году и вызвал в то время большие споры, поскольку для финансово-промышленных групп, сросшихся с властью, существовал конкретный термин – «олигархия». Ранее Президент применял и другой термин – «мегахолдинги». Однако именно определение ФПГ как «групп влияния» отражает не принцип срастания с властью и не организационную сущность («мегахолдинги»), а систему реализации своих интересов. В данном случае под «влиянием» подразумевается не влияние на общество, а конкретно на Главу государства по лоббированию своих интересов в перераспределении не только финансово-промышленных ресурсов, но и власти, как концентрированной возможности строить крупные сетевые корпорации.
В Таблице № 2 представлено два круга элит – крупно-буржуазная и административная. По своей сути интересов они одинаковы, хотя между ними существуют определенные различия. Основное различие заключается в том, что группы влияния в основном реализовались как крупная буржуазия и их задачей теперь является сохранение и приумножение своего капитала и влияния. В то время как высшая административная элита в большей части пока не является крупной предпринимательской группой, но имеет устойчивый и единственный интерес к собственному росту по стандартам потребления, принятым у буржуазной элиты.

Естественно, крупная буржуазия опирается на административную систему, распространяя в ней свои олигархические сети, но нельзя считать, что это влияние одностороннее. Адмэлита также успешно манипулирует крупными фигурами высшего истеблишмента. Прежде всего, потому что, тот, от кого многое зависит, сам попадает под зависимость от своей же сети влияния.
К административной элите необходимо отнести не только высшее звено управления парламента, правительства, судов и национальных компаний. Сюда же входят и высшие партийные руководители Нур Отана, поскольку руководство партии представлено либо выходцами из адмэлиты, либо действующими государственными руководителями. Цель обеих групп в целом одна – использование административного и политического ресурсов государства в укреплении и развитии своих капиталистических доменов.
В то же время эти два круга являются основными модераторами в принятии решений в политическом и социально-экономическом блоках – то есть практически всех. Является ли они по своей сути политическими союзниками Президента в сегодняшней ситуации?
Вопрос достаточно сложен в силу того, что эта группа элит состоит из персон, длительное время работавших рядом с Главой государства и заработавших свое влияние рядом определенных заслуг.
Однако по ряду признаков можно уверенно утверждать, что внутреннее содержание истеблишмента часто не только не разделяет политических интересов Президента, но и идет категорически им вразрез. Это отчетливо можно проследить на нескольких примерах.
Основная идея, выраженная графически в Таблице № 2, заключается в том, что круги элит организовали блокаду продвижения социальных интересов от общества к Лидеру страны. Эта блокада выражена в том, что сегодня, во-первых, капитализирован сам доступ концептуальной информации к Президенту, во-вторых, продвижение по социальной лестнице граждан осуществляется только под строжайшим патронажем групп влияния. Даже если и пробивается кто-либо «наверх» – он подходит к этому рубежу опутанным условностями и сетью зависимости от истеблишмента.
В то же время любое концептуальное решение (в виде докладов, концепций и пр.) подается Президенту с неизбежным «дай» в конце. Речь всегда идет о перераспределении какого-либо ресурса в пользу той или иной группы влияния. Таким образом, в направлении Президента сформировано жесткое потребительское отношение. Оно всегда маскируется риторикой общенациональных ценностей, гипертрофированием угроз, на самом же деле цели совершенно иные.
Одним из примеров служит выборная кампания в Мажилис 2007-го года. Оппозиция выстроила свою стратегию именно на разнице целей Президента и штаба избирательной кампании. Успех такого ориентира подтверждается высоким для сегодняшней оппозиции процентом голосов в крупных городах Казахстана. Разница целей заключалась в том, что перед Президентом стояла задача создания выборного органа, управляемого, но легитимного как на международной арене, так и внутри страны. Оппозиция по своему характеру является частью элит (о настоящей контрэлите будет сказано ниже). Поэтому появление нескольких единиц из числа оппозиции в Мажилисе означало для политико-административного круга незапланированный прорыв конкурента в институты власти. Отсюда и результат, преподнесенный Главе государства как соответствующий действительности и единственно правильный. На самом деле была одержана интерпретационная победа, т.е. победа не безусловная, а требующая дополнительных и лишних обоснований (скорее, оправданий) в течение длительного периода.
Сегодня очевидно, что ресурс, противопоставленный оппозиции в 2007-м году, в частности финансовый, был совершенно не сопоставим с реальным влиянием оппозиции на общество. В то же время известно, что уровень «откатов» при размещении заказов на партийные мероприятия, достигал 50 %! Эта информация стала достоянием широкого круга исполнителей из числа рекламщиков, политтехнологов, СМИ, полиграфистов и пр., которые являются естественным распространителем мнений и информации в обществе.
Сущность разницы интересов особенно проявилась в поствыборный период в явлении, которое получило распространение под названием «Проблема 2012». Во многом это явление было катализировано сменой президента в России. Смысл «проблемы 2012» заключается в том, что элиты начали энергично продвигать в общество мысль о скорой смене президентской власти в Казахстане, о необходимости ее преемственной передачи в скором времени. Это ярко высветило конкретную конечную цель всех групп влияния – вытянуть у Президента право выдвинуть преемника из своей среды. Эта цель проистекает из всего ряда причин межолигархических войн – окончательно закрепить за группой лидерство и насильно вытеснить других.
Один из факторов того, что оппозиция сегодня не контрэлитарна, а является частью элит, является то, что их стремления и цели на деле такие же (преемник из своей среды), только они рассматривают путь альтернативный административному в рамках вертикали власти. То есть персона Президента для всех этих групп уже сформировалась, как преходящая. Об этом говорит, прежде всего то, что наиболее часто тема «проблемы 2012» звучит в коридорах Ак Орды. Ярчайшим примером подмены государственных интересов собственными служит фраза «Президент сейчас не восприимчив к критике и не терпит негатива», транслируемая государственными мужами на вопросы общества «вы же рядом находитесь, почему не докладываете о безобразиях?».
Самым ярким примером описываемых тенденций служит крайне экстремальная версия поведения одной из групп влияния – Рахата Алиева и Ко. Ее деятельность свидетельствует о том, что эта группа сделала ставку на радикальный сценарий – «если не будет решено в нашу пользу, то возьмем власть сами». Тем не менее, Алиев сегодня практически озвучивает публично то, что «держится в уме» у всех лидеров элит.
Блокада играет роль не только заслона от продвижения социальных интересов к Президенту, но и в обратном направлении. В этом, собственно, и суть падения эффективности государственного управления – в разнице политически декларируемых целей и в размывании их по мере продвижения «вниз», в общество.
Неудачи в проведении административной реформы не содержатся в общем неумении руководить, а в том, что идеология изменений может подорвать всю систему теневой экономики элит в рамках государственного аппарата, а именно системную коррупцию и синергетику бюрократии.
В свою очередь то, как эта синергетика эффективно действует в интересах капитала можно рассматривать на многих примерах. Например, в прошлом году областные и местные власти заставляли частный фермерский сектор завышать реальные цифры урожая зерна (который и так был значительным) с целью искусственного увеличения экспортной квоты. Кампания была проведена масштабно, ее результатом стало то, что проблема зерна в стране стала вопросом МЧС, а затем правительства, поскольку непосредственно ударила по продовольственной безопасности страны.
Блокирующая функция элит сыграет и свою решающую роль в социальных явлениях, последующих кризису. Она заключается в том, что крупный монополистический капитал практически не пострадает от него. Поэтому все социальные явления пройдут мимо их структурных интересов. Напротив, его желание получить дополнительный ресурс власти и влияния за счет проблем политического руководства и общества будет чрезвычайно высок.
Из описанного выше следует следующий вывод: сегодня крупно-буржуазной и административной элите политически сильный Президент не нужен. Его ресурс необходим лишь только в том случае, когда он направлен всей своей силой политической воли против конкурента. Вызывает и серьёзные сомнения то, насколько сможет эта элита сформировать эффективный заслон таким угрозам как брандерская деятельность Р.Алиева или другим вызовам, накапливающимся в обществе
Круг интересов финансовых институтов, банков
Для того чтобы определить круг интересов банков второго уровня и их влияния на основные политические тренды, следует подвергнуть оценке их роль в сегодняшнем экономическом положении. Прежде всего потому, что они являются источником происхождения социальных конфликтов. В Таблицу № 2 банки тоже включены как носители блокирующих интересов элитных кругов от общества.
С точки зрения политэкономии как раз в банковских структурах произошел кризис перепроизводства услуг кредитования. В принципе следствием кризисов часто бывает оздоровление той или иной сферы. Можно предполагать, что после «встряски», сокращения объемов внешнего заимствования и исчезновения «пузыря» на рынке недвижимости, банки придут к некоему знаменателю соответствия реальной рыночной конъюнктуре. Однако здесь мы говорим о социальной роли, которую играют финансовые институты в обществе, о том, какую будут играть в ближайшем будущем и в чьих интересах.
В обычной ситуации, банки всегда являлись стержневым инструментом укрепления групп элит. Эта сфера вырастила специалистов именно национального происхождения и всегда являлась поставщиком управленческих кадров для власти и групп влияния. Через банки осуществлялись процессы накопления и перераспределения капитала в стране и за рубежом. В этом плане, казалось бы, их можно было и не отделять от крупно-буржуазной и административной элиты в отдельный круг интересов. Однако прогнозы развития социальных последствий проблем банковского сектора говорят о том, что финансовые институты обладают специфическими интересами и особой социальной позицией.
Сегодня массовая протестность в открытой форме направлена пока на строительные компании и их взаимоотношения с дольщиками. Эта массовая волна протестности имеет устойчивую тенденцию к самоорганизации «снизу». Уже создана Ассоциация дольщиков, в которую уже обратилось 4 тыс. человек, и которая только в Алматы стремится объединить вокруг себя около 10-ти тыс. семей. Их деятельность будет направлена конкретно против 27 строительных компаний, а риторика будет носить открыто антивластный характер.
После выяснения отношений с застройщиками, открытия все новых уголовных дел против строительных компаний, пустивших средства дольщиков на потребление и на накопление за рубежом, настанет очередь «антибанковской войны».
Сегодня банки пока маневрируют с социумом – рассматривают отсрочки выплат обязательств по кредитам – однако ресурс их маневра исчерпается уже к осени. Дольщики представляют собой лишь одну группу должников банкам. Существует обширная среда заемщиков малого и среднего бизнеса, крестьянских хозяйств, граждан, получивших потребительские кредиты и ипотеку на вторичном рынке жилья. Практически все заемщики выставили банкам имущественные и иные залоги. Залоговый фонд рухнул в цене, поэтому банки уже проводят оценку имущества не более чем в 50 %, когда в прошлом году было 70 %. Это фактически свело на нет количество инвесторов в среде малого и среднего предпринимательства. В сочетании с высокими процентами, низкая оценка залогов закрыла для них все перспективы открытия или развития дела. Естественно, аналитики банков учитывают и падение потребительской способности населения. Но речь идет не о тех, кто собирается начинать новое дело, а о тех, чей бизнес находится в залоге.
К осени банки активно приступят к реализации залогов, к «обанкрочиванию» предприятий и к изъятию заложенного имущества и земли. Эта тенденция уже набирает силу – пока реализуется брошенное жилье тех граждан, которые получили ипотеку под залог приобретаемых квартир, то есть их потери составляют только выплаченные средства и с ними они готовы смириться. Дальше начнется реализация «кровно нажитого» залогового имущества. В этот момент на рынок выйдут крупные инвесторы, для которых приобретение пущенных с молотка предприятий и жилья окажется отличной возможностью расширить свои домены. Будут осуществляться рейдерские сценарии, когда банки искусственно «под шумок кризиса», а иногда пользуясь временной нестабильностью предприятий, будут перепродавать их по низкой цене. Уже сегодня наблюдается приток российских инвесторов, имеющих четкую цель заработать на ситуации в Казахстане. Банки уже сейчас охотно вступают в коррупционные отношения по вопросу реализации залогов – их структуры берут взятки за различные способы обхода аукционных условий.
По сути, финансовые институты грубо используют тех, кто в свое время поверил в стабильность рынка и заложил имущество под высокие проценты. В основном это среда мелких и средних предпринимателей, среди которых практически не бывает аналитиков макроэкономики, способных вовремя предвосхищать кризисные явления в финансовой сфере.
Иными словами, банки не потеряют ничего, кроме сверхприбылей. О том, что они были всегда ориентированы на сверхдоходы, говорит тот факт, что новые хозяева АТФ банка – Юникредит, сразу изменили условия по депозитам, поставив европейские 4-5 %, а процентную ставку кредитования оставили казахстанскую – 16-18 % годовых.
Более того, можно утверждать, что финансовые институты активно включатся в перераспределение капитала – имущества, земель и предприятий – вместе с крупными инвесторами. В таких условиях прямая финансовая поддержка банков меняет свой смысл, прежде всего потому, что не в их интересах будет стабилизировать ситуацию. Естественно, коммерческая сущность оставит их глухими к стремлению правительства уменьшить негативный социальный эффект. Более того, даст им возможность торга с властью по преференциям в свою сторону на фоне угроз социального коллапса.
В таком ракурсе говорить о социальной или политической ответственности банков излишне, поскольку кризис заимствований, приведший к озвученной публично цифре внешней задолженности Казахстана в 14 млрд. долларов, финансовые институты организовали в прямом смысле «своими руками».
Круг интересов «среднего исполнительного звена», контрэлиты.
В предыдущих разделах говорилось об элитных кругах, в этой же главе будут рассмотрен один из основных вопросов доклада – кто является реальной контрэлитой в Казахстане и каковы ее интересы.
Слой, который мы условно назвали «средним исполнительным звеном» или «офицерами» групп влияния и административного аппарата, постепенно начинает приобретать отчетливые черты контрэлиты. Это дает основание рассуждать о появления нового источника пассионарности, обладающего сильным интеллектуальным и организационным ресурсом, но не ставшего пока на ощутимые организованные рельсы. Интеллектуальный потенциал описываемого слоя является высоким, потому что именно они непосредственно осуществляли рутинную и прорывную деятельность по расширению влияния той или иной олигархии. Но самое главное – это то, что они представляют собой среднее исполнительное звено в государственной вертикали управления.
Эта тенденция направлена именно на формирование контрэлиты, а не на интегрирование в элиту, что представляется более естественным. Прежде всего, по вопросу собственности. Во-первых, как правило, «офицеры» не являются крупными независимыми буржуа по разным причинам – либо в основном были заняты на государственной службе, либо их предприятия зависимы от групп влияния. Во-вторых, им практически «не светит» пополнить ряды высшей элиты, поскольку первоначальное накопление капитала уже сформировало ее. А главное – пополнение высшего истеблишмента резко противоречит интересам самого истеблишмента. В-третьих, являясь непосредственными практиками и исполнителями основных программ в государстве, «средние управленцы» интенсивнее всех сталкиваются с негативом, а часто и с абсурдным искажением реализации интересов общества властями. Не будет преувеличением утверждать, что они сильно тяготятся той частью отношений, которые исходят от олигархических групп и девальвируют государственные интересы путем подмены их частнокапиталистическими. Назвать их мелкобуржуазной формой сознания тоже трудно, поскольку средним управленцам постоянно приходится решать задачи общенационального масштаба по долгу службы. Для них главным ресурсом продвижения «наверх» по социальной лестнице является ориентир на профессиональный рост и квалифицированное самовыражение в национальных интересах.
Конечно, не стоит преувеличивать интеллектуальный потенциал среднего исполнительного звена в целом. Процессы падения профессионализма, непотизм, найм и продвижение по службе по принципу лояльности олигархической группе оказали свое крайне негативное влияние на эффективность данного сегмента управления.
Здесь речь идет скорее о тех, кого принято называть «здоровыми силами» госаппарата, социальные контуры которого расплывчаты, но сильны в понимании горизонтальной сетевой организации.
Существует еще один важный фактор, который нельзя обойти стороной – возрастной или поколенческий. «Среднее звено» – это в основном это люди из поколения 30-45 летних, в то время как крупная буржуазия и высшая власть представлена в большей степени поколением более старшим. Поколенческим фактором объясняется большая популярность в свое время доменов Кулибаева и Алиева – будущее для его членов имело вполне ощутимые биологические характеристики. Этим объясняется также и главный тренд в системе мышления «среднего звена» – будущее реально представляется в виде грядущей смены поколений и, как следствие, ожидается неизбежная смена «правил игры» в политической сфере. Пока это воспринимается только как вопрос времени, но возможно перерастет и в стимул активности.
В то же время в среду контрэлиты по-прежнему входят «профессионалы старой школы», всю жизнь проработавшие в жесткой системе требований советского периода. Являясь частью советской элиты и привыкшим воспринимать социальную динамику «вверх» через рост профессионализма и патриотизм, эти люди переживают резкое отторжение повсеместному падению патриотических настроений и торжества общества потребления.
Существует ряд причин, почему в среду контрэлиты не включается более молодое поколение до 30-ти лет, которое сегодня тоже довольно широко представлено в государственной вертикали управления. По двум причинам: во-первых, эти люди получали школьное образование в сложный для Казахстана период. Закладывающиеся тогда ценности индивидуализма, в ущерб коллективной ответственности, сформировали в них мотивации личного успеха любой ценой; во-вторых, их профессиональный путь начинался уже под жестким контролем групп влияния, поэтому они воспитаны в приоритете корпоративных ценностей больше, нежели национальных. В итоге – контрэлитарность более молодого поколения не прослеживается, поскольку они скорее склонны приспосабливаться к существующим условиям, нежели к стремлению их изменить.
Контрэлитарность представителей «среднего звена» очень ярко демонстрируется их негативным отношением к сегодняшним способам борьбы с коррупцией. В большей степени из этой среды исходят трактовки, что «ловят в основном мелкую сошку, а крупная рыба избегает ответственности». Эти высказывания мотивированы тем, что под удар попадают представители этого социального слоя, но не элиты, которой «офицеры» в этом случае наиболее открыто противопоставляют себя.
В то же время, как ни парадоксально, именно эта средняя группа управленцев, несмотря на контрэлитарное содержание, представляет собой важность для союза интересов с политикой Президента. Как видно из Таблицы № 1 данная прослойка находится «по ту сторону» блокирования интересов, то есть они лишены каких-либо каналов концептуальной информации для доведения своего мнения до Президента кроме как через круги элиты, где эти мнения значительно трансформируются. В публичной сфере их мнения и интересы не отражает никто, а самостоятельно выходить с протестной риторикой средние управленцы считают нарушением принципа государственнической этики. А чаще просто не хотят быть зачисленными в ряды дискредитированной оппозиции. Тем не менее, в последнее время возникают выбросы на публику чисто профессиональных конфликтов, но они теряются в гуще межолигархических «пиар войн». Фактически местом выражения собственных интересов для средних управленцев являются «тесное общение в своем кругу», где антиэлитная (заметим, не антипрезидентская) риторика присутствует в открытой форме.
Таким образом, можно констатировать, что реальная контрэлита находится внутри власти, сидит на тех же ресурсах, интегрирована в те же процессы, что и власть. Подробнее о союзе интересов с контрэлитой будет описано в Разделе 3. Выводы.
Круг интересов независимых предпринимателей
В отличие от предыдущей социальной группы, все-таки имеющей определенные возможности влиять на политику в стране, данный слой общества фундаментально осел за границами блокады интересов. В этом отношении независимые предприниматели являются классическими пассивными потребителями условий, созданных для них властью – как позитивных, так и негативных. До сих пор любые попытки организовать эту социальную группу «сверху» и инициативы «снизу» так и не сформировали внятного публичного рупора предпринимателей. Прежде всего, потому что, как принято их называть «малый и средний бизнес» является неоднородной средой.
Здесь не рассматриваются отраслевые различия и финансовые показатели. Речь идет о том, что МСБ делится на две принципиальные части – бизнес, аффилированный с группами влияния, зачастую созданный ими в основном для обеспечения поставками реального сектора экономики, и, назовем их так, «независимых» предпринимателей, которые собственно и создают рынок свободной конкуренции. Количество активных субъектов малого бизнеса на сегодняшний день составляет порядка 725 тыс. предприятий. Первую часть из них в административном порядке организовали в группы поддержки провластных партий и во всевозможные GONGO (Governmentally Organized Non-Governmental Organizations) – проправительственные НПО.
Вторая группа представляет собой массовую среду, львиную долю которой составляют индивидуальные предприниматели (ИП). По существующим данным сегодня количество активных ИП достигает 431 681 и крестьянских фермерских хозяйств 169 593 – более полумиллиона человек. Сюда же можно прибавить «самозанятых», количество которых нигде не учитывается и не отслеживается – это всевозможные «шопники», а также продающие свои умения юридически не зарегистрированные специалисты и квалифицированные рабочие.
Таким образом, группу независимых предпринимателей формирует слой граждан, инициативный по своему характеру и являющийся одним из сегментов общества, который основной удар экономических проблем примет на себя. В особенности это будет касаться вопросов перераспределения мелкого капитала, о котором писалось выше.
На фоне роста цен, падения покупательной способности населения и сокращения заказов от государства, пассивное восприятие существующих условий предпринимательства достаточно быстро сменится на стремление эти условия активно изменить. В условиях, если власть и элиты будут предпринимать лишь популистские шаги, малый бизнес активизируется в двух направлениях – в сторону своей быстрой самоорганизации и в поисках лидеров, способных решительно повлиять на изменение общественных отношений в стране. В классической политологии это называется революционными настроениями мелкобуржуазной среды. Такие тенденции лежали в основе социальных катаклизмов в начале прошлого века, эти же явления продолжают существовать и в современном мире.
Круг интересов общества в целом
По стратификации, принятой в данном докладе, в указанную категорию входят граждане наемного труда и социальные группы, зависящие от прямых выплат государства. Это то, под чем обычно подразумевается «широкая общественность», являющаяся носителем и распространителем настроений, стереотипов и моделей поведения. По-иному – массовое сознание. Такая стратификация довольно условна, но в данном случае именно массовый характер оторванности общества от влияния на общеполитические процессы играет главную роль.
В данной среде на фоне кризисных явлений быстро набирает динамику осознание собственной периферийности на основе вынужденной десоциализации (или аномии Э.Дюркгейма). Это классическая ситуация роста недоверия к GONGO и официальной пропаганде, к каналам донесения общественного мнения и общественных интересов до руководства государством.
Соответственно наблюдается рост температуры квалифицированной антиэлитной политизации населения, вынужденной заняться политической самоорганизацией и поиском новых лидеров. Основные направления развития тренда – новые общественные движения, независимые профсоюзы и тенденция в сторону создания партий нового типа – с реально демократическими формами управления и выражения интересов рядовых членов.
Эта социальная группа тоже является субъектом, получающим основной удар кризисных явлений на себя. Часть из них быстро расстается с иллюзией возможности пополнить ряды среднего класса, часть окажется на пороге реальной бедности. Кризис показал, что причисление себя к среднему классу носит сильный психологический характер. Помимо уверенности в завтрашнем дне, это эмоциональный эффект от возможности планировать семейный бюджет «не впритык», а с накоплением средств для определенных статей расходов, символизирующих собой повышение качества жизни – от питания в кафе до отдыха за рубежом.
Средний класс по-казахстански всегда маневрировал между чрезмерно завышенными стандартами качества жизни элиты и сползанием в семейный бюджет, страдающий от хронического дефицита. Причем позитивные изменения в семейном бюджетировании всегда напрямую связывались, помимо личного успеха, с позитивным развитием политического строя. В этом, собственно, и состояла массовая поддержка власти со стороны широких слоев общества. А точнее – массовая поддержка политики Президента.
Ощущение десоциализации и аномии резко возникли после выборов 2007-го года. Однопартийность парламента по идее должна была продемонстрировать идеологическую монолитность казахстанского общества. На деле же у населения возникло ощущение оторванности от возможности быть гражданами как социально-политическими субъектами нации. Ведь те, кто голосовал на выборах за оппозицию, голосовали не за их партии и лидеров, а просто за право иметь гражданский выбор.
Блокирование общественных интересов элитами отчетливо проявилось через призму многочисленных скандалов и чрезвычайных происшествий внутри нее, формулировок реагирования на них государственных мужей, а также через принятие властью ряда непопулярных решений. Сегодня именно периферийность, антиэлитная направленность протеста и десоциализация приводят к тому, что антивластные настроения очень быстро набирают темпы развития.
В условиях падения уровня общей культуры населения, маргинализации города и села, отсутствия твердых религиозных и идеологических воззрений, интересами массового сознания начинают достаточно эффективно манипулировать различные экстремистские политические и клерикальные группы, строящие свои доктрины на ксенофобии, изоляционизме и социальном популизме. Эти доктрины способны безвозвратно девальвировать гражданственность и патриотизм казахстанского общества, пока являющихся ментальным стержнем нынешнего поколения и его базовым социально-политическим интересом.
Раздел 3. Выводы.
Прежде всего, в данной главе предстоит определить, какой именно сфере интересов Президента должны соответствовать тренды основных групп общества.
Очевидно, что политические игроки всегда склонны рассматривать институт Президента, как политическую силу, сосредоточившую в своих руках максимум административного ресурса и влияния. В то же время почти все исследования общественного мнения демонстрируют высокие ожидания общества от Главы государства, как исторической персоны, способной формировать нравственные и гражданские ценности не только сейчас, но и в будущем. Зависимость казахстанского информационного пространства от российских СМИ формирует в нашей стране референтную модель подражания пассионарному росту, произошедшему в соседней стране за период правления В.Путина. Это создает востребованность общества в высоких патриотических настроениях. Общий пассионарный настрой обладает существенным потенциалом к тому, чтобы обратить все негативные явления общества в пользу последующего позитивного развития.
Элитами долгое время проводится политика намеренной экстраполяции всей политической ответственности за негатив в обществе лично на персону Президента. Экстраполяция происходит еще и потому, что остальные персоны власти откровенно не обладают сопоставимым рейтингом доверия. Примером может послужить стратегия предвыборной агитации Нур Отана в 2007-м году. Ранее на выборах с участием партий образ Президента всегда оставлялся на последнюю неделю агитации, как самый неоспоримый аргумент в пользу принятия решения избирателем. К последней неделе имиджи прочих политиков из власти начинали вызывать отторжение, что приводило к остановке роста рейтинга Отана. В этот момент мобилизовывалась чёткая ассоциативная линия Президент – Отан, и это позволяло весь негатив оставить «позади» на совокупном образе политиков вторых планов и давало импульс избирателям к голосованию за существующий политический строй. В прошлом году образ Президента сразу был заявлен в массированном порядке с самого начала.
Поэтому экстраполяция всего негатива на Главу государства началась практически сразу, с первых дней избирательной кампании. И это не техническая ошибка стратегов, а объективное понимание того, что остальная элита не воспринимается положительно в обществе, а также намеренная безответственность в отношении к имиджу Главы государства.
В текущий период сегодня экстраполяция негатива достигла характера системности. Секвестирование бюджетов в Астане привело к тому, что зарплаты некоторых бюджетников (например, в сфере здравоохранения) урезаются, при этом им открыто объявляют, что это происходит из-за накопления средств на празднование дня столицы! Поскольку этот юбилей проводится в день рождения Президента, последствия такой риторики для имиджа Главы государства очевидны. Среди населения усиленно распускаются слухи о скором и неизбежном уходе Н.Назарбаева от власти. Характер и повторяемость нюансов в этих слухах говорит о том, что они были системно запущены «сверху», через каналы, пользующиеся типичным казахским вотумом доверия – через ближайшее окружение.
Достоянием общественности давно стали способы и принципы деятельности элитарного окружения Главы государства. Обычно используется тактика «комфортного успокаивания», чтобы отвлечь внимание лидера от назревших проблем, и за этой комфортностью успешно продолжать реализовывать планы по укреплению доменов. Эта тактика сформировалась на выборах 2005-го года в виде программы «психологической поддержки Президента». Тогда это имело значение, поскольку предвыборная гонка является тяжелой и ответственной нагрузкой для кандидата. Сегодня эта тактика сохранена вопреки кардинальной смене ситуации. Просто тогда вышла на поверхность эффективность политики наращивания собственных ресурсов административной элитой «под шумок» сосредоточенности Главы государства на важнейших политических событиях и под предлогом завышаемых угроз и рисков со стороны оппозиции.
Причем обществу заметна следующая тенденция: чем более чиновничеством проваливается процесс реформ или борьба с негативными явлениями, тем больше «верноподданнических славословий», раздающихся из рядов элиты, вызывающих повсеместное отторжение общества.
Очевидно, что кругами элит политическая стабильность и сила президентского института эксплуатируется только как фактор безопасности своих капиталистических доменов и высокого положения в административной лестнице. Но этот фактор воспринимается как сила института, а не исторической личности. То есть их преданность, в случае смены персоны во главе государства, будет быстро перенаправлена на другую личность.
Интересы Президента, как системообразующего фактора политического строя, являются комплексом разноплановых и разноуровневых сегментов. Такими сегментами являются эффективное управление реальным сектором экономики, деятельность в области геополитики и пр. Однако главной стратегической целью Президента как исторической личности является сакральность общенационального лидера, действующего в общенациональных интересах. Этот фактор сегодня обеспечивает социально-психологическую легитимность персональной власти Н.Назарбаева, а в будущем будет гарантировать историческую преемственность и стабильность основных принципов независимого развития Республики Казахстан. Социальные потрясения и межолигархические войны слишком дорого могут стоить для казахстанского общества. В этом ключе присутствует абсолютное совпадение интересов тех кругов общества, которые находятся «за кругом блокады» и Главы государства.
Особую роль в устойчивости легитимности Президента является способность преодоления экстраполяции негатива на себя, уязвимости от межэлитных скандалов и различных компрометирующих брандерских тактик. Любая политическая кампания может быть успешной, когда власть и общество – партнеры. Прежде всего, партнеры – Президент и общество. В противном случае даже филигранные политические технологии и позитивные шаги утонут в психологическом саботаже и пройдут через абсурдизацию, осуществляемую изолированными элитами.
По сути, ключевой доктриной внутренней политики должен стать слоган-принцип «Вернуть Президента его народу и народ его Президенту». О такой союз будут разбиваться любые пропагандистские брандерские тактики выброса компромата, поскольку раньше всегда народ получал различную информацию, но относился к ней индифферентно. В условиях кризисных обострений влияние брандерства может быть усилено мультипликативно. Но общественность всегда будет стоять на страже своего лидера, если он является лидером не элит, а Лидером общенационального характера, опирающегося на слои «простого» общества. В условиях различных кризисов поддержка Президента широких социальных групп носит чрезвычайно важный характер.
В этой связи наиболее интересным ракурсом является следующий вопрос – почему контрэлита является социальным союзником Президента, при том, что она контрэлитарна по содержанию. Среднее управленческое звено превратилось из стабильной опоры власти в антиэлитный фактор лишь в силу конкретных условий во времени. Главным из них является очевидное противоречие в управлении государством между государственническим мышлением и частнособственническими интересами крупной олигархической элиты.
Но при этом среднее звено не получает сигналов о том, что Глава государства об этом знает и предпринимает решительные меры по изменению обстановки. В сложившемся положении именно преодоление контрэлитности среднего звена составляет собой задачу реального решения вопроса об эффективности государственного управления.
Из содержания доклада становится очевидным, что по своему характеру интересы социальных слоев не являются сугубо материальными. Напротив, чаще социально-психологические мотивации становятся в значительной степени важнее чисто экономических аспектов. Поскольку исторический имидж Н.Назарбаева, как политической персоны, является категорией ментального характера, в подходах к управлению интересами следует в качестве первичного всегда определять идеологическую легитимность и сохранение сакрализации национального лидера. В противном случае всегда существует угроза скатывания на уровень материального подкупа населения, технологии которого сегодня уже не работают.
В Таблице № 3 дано графическое представление тех процессов, которые должны быть организованы. В общем, они характеризуются как «Прорыв на основе общности интересов». Иными словами, единственный реальный союзник Президента находится за пределами блокирования интересов, и эту блокаду необходимо ликвидировать. Таким образом, в данном разделе формулируются те направления, которые требуют незамедлительных действий по оздоровлению внутриполитической обстановки и выстраиванию эффективных барьеров для угроз имиджу Президента.

Раздел 4.
Пути реализации направления
«Прорыв на основе общности интересов»
Разумеется, интересы социальных групп даны в самом крупном масштабе. В их среде всегда есть отдельные персоны, не подпадающие под общую классификацию. Их потенциал целесообразно будет использовать в процессе претворения программы «Прорыв» в жизнь.
В то же время необходимо чёткое понимание вопроса, насколько возможно лечение проблемы системы ресурсами самой системы. Структура зависимости и взаимозависимости внутри групп интересов элиты настолько сильна, что изменение этих каналов взаимных обязательств требует долгосрочного периода. Здесь же термин «прорыв» взят не случайно, поскольку означает способ действий, противоположный рутинному.
Прежде всего, прорыв касается системы принятия решений и разработке мер, идущих в разрез интересам тех, кто неизбежно выступит в роли тормоза. В первую очередь это крупно-буржуазная и административная элиты.
Речь идет о формировании своеобразного Штаба политической кампании, который будет действовать в такой последовательности:
- Независимый мониторинг общественного мнения по вопросу ожидания населения действий Президента по преодолению негативных последствий кризиса.
- На основе исследований осуществление разработки стратегического целеполагания и тактик, приводящих стратегии к успеху, а также конкретного планирования кампании.
- Непосредственно начало моделирования социально-психологической ситуации в обществе путем реализации практических мероприятий.
В качестве образца Штаба можно использовать модель Группы оперативного реагирования «ГОР», закрытой группы, развернутой в период президентских выборов 2005-го года. Главный принцип подбора кадров – это селекция специалистов, беспрекословно ориентированных на интересы Президента и максимально независимых от групп влияния.
В методике необходимо активно использовать формирование новых мифологем, гораздо более привлекательных на обывательском уровне, нежели выбросы дискредитирующей информации. Нужна разработка точечных сигналов обществу, исходящих лично из выступлений Президента. Чрезвычайную важность приобретает создание новых политических «институтов доверия Президенту», как используя ткань существующих, так и организуя принципиально новые и нетривиальные решения. Опорными инструментами должен стать ряд СМИ, которые возможно потребуют определенного экстренного реформирования. В общем, используется каждый эффективный инструментарий. Главное – это не придать кампании характер тотальности – скорее речь идет о комплексе сконцентрированных и точечных действий с постоянным мониторингом эффективности их исполнения.
В завершении необходимо подчеркнуть, что, безусловное лидерство Президента Н.Назарбаева в идеологической сфере – это вопрос, который невозможно однажды законсервировать в позитивном положении. В этом отношении, кризисная ситуация является не только сводом негативных факторов, но и прекрасной возможностью осуществить новый качественный рывок лидирующей позиции Президента. Несмотря на растущий абсентеизм общества по отношению к власти, данный доклад демонстрирует наличие в обществе потенциальных союзников этой линии, поскольку вопрос о безупречной идеологической легитимности Президента Н.Назарбаева – это вопрос геополитической силы нации и ее будущего.
(цикл «Власть и общество», 2009г.)
Основные политические тенденции 2009 года в Казахстане
Глобальный кризис принес с собой не только проблемы финансово-экономического характера в различные страны. Наибольшие угрозы, являющиеся последствием мультипликативного эффекта от него, сосредоточены в тектонических сдвигах в системе общественных отношений. Зачастую эти сдвиги обладают латентным характером развития. С одной из таких угроз в настоящее время сталкивается Казахстан.
Сегодня определились основные признаки того, что в недрах существующего политического строя зреет абсолютно новая система общественных отношений, новый политический строй. Он одинаково направлен против и высшей элиты, и общества. Созревание нового социального порядка основано на глубинных процессах экономического и социально-политического порядка, а также на логике исторического развития Казахстана, как страны, относительно недавно ставшей на путь рыночных отношений. В стране возникла реальная опасность отхода от основных принципов, принятых Главой государства в качестве основных приоритетов, в сторону возникновения в стране «нового тоталитарного политического режима» (НТПР), способного постепенно изменить характер власти и впоследствии захватить власть на самом высшем уровне или установить «марионеточное управление».
С исторической точки зрения появление НТПР – это классический пример, через который прошло большинство стран мира. Тоталитаризм в разных формах возникает тогда, когда после завершения этапа первоначального накопления капитала, возникает стремление мелкобуржуазной среды в союзе с бюрократической элитой и крупными олигархиями провести перераспределение капитала. Эти процессы не имеют отношения к конкретному историческому периоду, поскольку растянуты в истории от Великой Французской буржуазной революции 1789 года, до Исламской революции 1979 в Иране и цветных переворотов в Грузии, Украине и Кыргызстане, имевших место уже в ХХI веке.
Для перераспределения капитала и власти тоталитарным режимам необходима легитимация процесса в виде временного разрушения буржуазного права (введения законов и норм по экспроприации, об ограничении частной собственности, свободы конкуренции, чрезвычайного усиления регулирующей роли государства), а также маргинальная социально-популистская идеология (борьба с безработицей, коррупцией, уничтожение олигархов, банковского или еврейского капитала etc.).
Сравнение нынешнего кризиса экспертами с Великой депрессией часто отражает опасение в становлении многих стран по путь тоталитарных режимов 30-х годов прошлого столетия. Примечательно то, что в основу возникновения тоталитаризма всегда ложился контекст необходимости преодоления экономического кризиса.
Иными словами, процесс возникновения тоталитарных общественных отношений с исторической точки зрения достаточно типичен для молодых формирующихся государств.
Как правило, НТПР рождается на основе манипулирования интересами основных социальных сил и политических акторов, умело действуя на ослабление крупнейших политических персон и подогревая широкий социальный протест в стране. Такие тенденции уже окончательно оформились в Казахстане.
Сегодня интерес элиты, сформированной по олигархическому принципу, заключается в консервации статус-кво в общественных отношениях и неприкосновенности созданных финансово-экономических корпораций. Элита во многом обладает аристократическими характеристиками – закрытость круга, право формирования правовых, ментальных, государственных и социально-организационных функций и политических «правил игры».
Интересы нового слоя направлены на разрушение этой монополии. В этом ему необходима широкая протестная поддержка маргинально настроенных слоев. В условиях отсутствия компетентной оппозиции общественная мысль в стране реально приобрела охлократический характер. Поэтому усиление маргинализации опорных социальных страт казахстанского общества – профессионалов бизнеса и государственного администрирования, классической научной и образовательной интеллигенции, элитного инновационного рабочего класса и технократов – происходит в интересах нарождающихся носителей тоталитарной системы.
Для того чтобы квалифицированно определить контуры формирующегося НТПР, необходимо проанализировать ряд ключевых вопросов – каковы его экономическая и прочая ресурсная основа, политический алгоритм действий, представленность в политических субъектах; на какой стадии развития находится процесс, каковы прогнозы политической активности; самое главное – какие существуют возможности по борьбе с этой угрозой.
Об экономической базе. Сегодня перераспределение собственности де-факто имеет место. Тем не менее, этот процесс происходит совершенно по-иному, нежели в докризисный период. Аналитики инерционно полагают, что перераспределение собственности по-прежнему осуществляется крупными «командирами» олигархических групп. На деле происходит массовое перераспределение капитала на уровне силовых структур в тандеме с местными органами власти, которым открылись новые возможности в рамках «антикоррупционной кампании» и борьбы с криминалом в бизнесе.
Как упоминалось выше, тоталитаризм обычно характеризуется временным сломом классического буржуазного права с целью правового обоснования перераспределения собственности. В сегодняшней ситуации правовая система не нуждается в таком изменении, поскольку частная собственность и так беззащитна перед силовыми структурами. Кампания по борьбе с коррупцией и криминалом фактически узаконила массовое рейдерство. Оно касается не отраслей экономики, а вообще любой привлекательной частной собственности в виде бизнеса, недвижимости и пр.
Алгоритм рейдерства следующий: открывается следствие по какому-либо подозрению в коррупции или финансовых нарушений. В заведенном «деле» присутствует два процесса – первый, это, собственно, само «дело»; второй – это отъем бизнеса у причастных, повсеместно сопровождающий расследование преступлений.
«Силовики» в качестве материалов следствия получают полный доступ к информации о бизнесе, партнерах, финансовых взаимоотношениях, недвижимости и пр. Если бизнес привлекателен, то круг действующих лиц в преступлении искусственно расширяется, затем в виде шантажа используется добровольное переписывание долей тех предприятий и объектов, которые успешны, в пользу родственников и приближенных «силовиков». Это касается как крупных дел, получивших общественный резонанс, так и остающихся за пределами общественного внимания.
Таким образом, основными акторами передела постепенно становятся сотрудники следственных органов КНБ, Финпола, МВД и прокуратуры. Поддержку им оказывают суды, органы власти и авторитетные покровители. Эти процессы быстро приобретают чрезвычайно широкий размах. При этом, президентская идеология борьбы с криминалом в бизнесе и на государственной службе является безапелляционным политическим прикрытием.
Процесс перераспределения уже находится в стадии жесткой борьбы, свидетельством которой является новый рост межведомственных столкновений. Причем все эти столкновения, как правило, совершенно не мотивированы профессиональной конкуренцией.
О социальной опоре НТПР. Социальная база формирования новых социальных отношений типична для условий экономического кризиса, но уникальна для исторического развития Казахстана. В общественном сознании сложилась ситуация, когда официальная пропаганда влияет на него минимально, в то же время минимальным же влиянием обладают и оппоненты президентского курса. Это стало результатом того, что с одной стороны, оппоненты власти, включая как формальную оппозицию, так и «врагов режима» за рубежом, приложили максимум усилий по дискредитации властной элиты; с другой стороны – оппоненты сами не получили социальной опоры в силу различных причин. Эти причины заложены как в традиционном менталитете казахстанцев, так и в слабости и нравственном облике оппонентов.
В результате, общественное сознание «зависло» посередине и заняло позицию агрессивного абсентеизма и аномии («вынужденная десоциализация», деградация гражданственности, Э.Дюркгейм).
Публикуемые социологические опросы, свидетельствующие в пользу успешности пропаганды, представляют собой лишь неправильную трактовку отношения широких слоев к политическим процессам. Высокая оценка потенциала власти к изменениям свидетельствует лишь о том, что в общественном сознании не существует никакого, кроме государства, реального политического актора – проще говоря, это пиетет к любому государству, каким бы оно не было по содержанию. In re, это создает широкую социальную базу для НПТР. Потому что в условиях аномии, предположить, что масса людей служит опорой и активным защитником любой легитимной власти – будь то парламент или народно избранный президент – не отвечает действительности. Народ практически «принял тоталитаризм». Это выражается в тотальном желании изменить существующие порядки и в тотальном отсутствии знаний, в какую сторону.
Немалую роль в возникновении такой ситуации сыграл выход книги «Крестный тесть». Приблизительное восприятие ее складывается следующим образом: люди понимают, что книга состоит на 60 % из версий, 20 % из ее содержания составляет «личная дурь автора», популярность которого ничуть не выросла. Разрушающая суть состоит в оставшихся 20 процентах, которые, по мнению широких слоев общества, содержат в себе тяжкие политические и государственные обвинения, прямых ответов на которые официальная идеология, по их представлению, предоставить неспособна.
Все это свидетельствует о накоплении огромной кинетической энергии в массовых настроениях, модераторство которых практически не осуществляется.
Казахстанская формальная оппозиция переживает период временной «комы», связанной с необходимостью выработки собственной позиции по «книге». Причем парадоксальным является то, что она и для них носит негативный характер, поскольку представляет собой рубеж, после которого требования общественности к оппозиции вырастают десятикратно. Оппозиция стоит на Рубиконе, после которого она должна либо крайне радикализироваться, либо окончательно потерять своих сторонников.
Это неизбежно повлечет за собой перенесение акцента на то, что формирование казахстанского самосознания будет происходить из-за рубежа. Оппозиция понимает, что ее деятельность лишена всяких перспектив внутри страны, как в силу боязни радикального сопротивления, так и в силу отсутствия реальных полей для открытой деятельности. Поэтому стратегическая ставка будет сделана ими на активизацию схемы: «радикальные шаги за рубежом формируют информационные поводы внутри страны, генерируют массовое общественное сопротивление».
По имеющейся информации Алиев, Аблязов и Кажегельдин уже приступили к координации своих усилий. Не исключено получение ими в свой альянс Жакиянова – необходимого для предъявления Западу «реального узника». Постепенно к этому альянсу могут присоединиться формальные оппозиционеры и диссиденты внутри страны. Причем, введение ограничений на их выезд не возымеет успеха – кампанию можно координировать и из Казахстана.
Активизация «казахстанского зарубежного тренда» будет усилена деятельностью оппозиционеров в соседней стране – Кыргызстане. По имеющейся информации, кыргызская оппозиция, понимая неизбежность своего поражения на июльских президентских выборах, собирается на международной арене продвигать понятие «неэлекторальные выборы» (рабочий вариант термина). Она будет стремиться утвердить его в качестве прочного термина или политического определения, а затем объединить усилия сил оппозиции стран ЦА за рубежом с целью активного совместного воздействия на международные организации и общественное мнение.
Председательство Казахстана в ОБСЕ практически лишает политический курс страны возможности оставить внутриполитические тренды на периферии международного внимания. Напротив, акцент критики с «несоответствия до председательства» сместится в сторону критики «действующего председателя». В развитии такой критики будут заинтересованы, в частности, те стороны, которые стремятся к ослаблению ОБСЕ или к его реформированию. В таком контексте Казахстан рискует стать «иллюстрацией кризиса организации». Естественно, вал критики будет проходить не в официальной, а в «около-официальной» риторике, но в любом случае будет содержать в себе сильные косвенные удары по внутренней стабильности политического строя в Казахстане.
Вышеуказанные факторы способствуют кристаллизации стратегии открытых оппонентов власти, которая произойдет в течение одного-двух месяцев.
В описываемых процессах открытые оппоненты играют роль лишь видимых факторов, сопровождающих формирование НТПР в стране. Реальные угрозы сосредоточены в латентном поле внутри страны.
Состояние административной вертикали. Административная вертикаль государства, ранее характеризовавшаяся как поле взаимодействия кланов, сегодня переживает значительные метаморфозы. Продолжает развиваться процесс депрофессионализации, сегодня он исходит из общей разрегулированности общественного сознания. Причем, часто государственная вертикаль является и источником «пораженческих» настроений, и деградации гражданственности.
Имитация политической активности и двуличие приобрели собственный алгоритм воспроизводства и служат для госчиновников прикрытием истинных настроений. Абсурдные публичные ошибки госчиновников и ведомств являются следствием этого воспроизводства, потому что абсурдизируются реальные политические цели.
Сочетание коррупционной борьбы с беспринципным рейдерством нивелировало страх перед законом, потому что с точки зрения общественного восприятия в стране не происходит войны закона с криминалом. Результатом стало то, что коррупционные наказания воспринимаются в качестве бессистемной лотереи. А, следовательно, лишь усиливают «временщиковские» настроения, повышают размеры «откатов» и усложняют условия их отдачи, основываясь на «повышении рисков».
В такой ситуации административная вертикаль государства, с точки зрения гражданского сознания, превратилась в бессистемное «желе», способное пассивно проводить через себя любые антигосударственные идеи. Не будет преувеличением говорить о высокой степени деморализации госаппарата в целом. Исключение составляют отдельные представители профессионального и квалифицированного «среднего звена», сохраняющие в себе профессиональные и гражданские ценности.
С другой стороны, это же «желе» демонстрирует ошеломляющую неспособность проведения в общество ценностей президентского курса. Более того, уже открыто бравирует тем, что «это не мне надо, а тем, кто наверху». Причина кроется в том, что основным мотивом «проводников» – политических назначенцев и руководителей разного уровня – является вопрос личной статусной и материальной безопасности. Это сублимируется в то, что прослойка гипертрофирует понятие государственной безопасности, результатом чего становится принятие законов и норм, превышающей ее реальные цели, которые могут достигаться и в более либеральном режиме. «Безопасность» стала идеологическим жупелом необоснованного «закручивания гаек» и усиления за счет нее собственного административного ресурса управляющей прослойки. В большей степени это относится к откровенному «алармизму» в рядах силовых органов, в особенности по вопросам внутренней безопасности.
Очевидно, что гипертрофирование вопросов безопасности получает сильный политический резонанс за рубежом, но при этом, управляющая прослойка избегает той ответственности, которая лежит на Главе государства.
Особая роль в углублении проблематики принадлежит институтам, ответственным за осуществление в стране диалога с обществом. Сегодня все эти институты (представительные органы, политические организации, ведомства и пр.) де-факто погружены в «серое безликое» состояние, неконкурентное в борьбе за общественные настроения. Основная парадигма их действий заключается в компенсации провала собственных программ славословием и чинопочитанием на всех уровнях, созданием абсурдных популистских кампаний, направленных, в итоге, на подрыв авторитета Главы государства и механизма его диалога с обществом.
Кризис государства, как прогрессивного института «good governance» («эффективного и справедливого управления») основательно подрывается еще одним источником возникновения тоталитаризма – феодализации отношений власти и государства на всех уровнях.
О персональном составе и субъектной специфике НТПР. Традиционно казахстанская политика характеризовалась повышенным субъективизмом – видением столкновения политического противостояния через персон. Описывая политически коллизии во власти необходимо найти ответ на один из важнейших вопросов – кто персонально является проводником той или иной политической линии, в данном случае НТПР?
Сегодня мы сталкиваемся с уникальным явлением в казахстанской истории. Не случайно в научных характеристиках возникновения тоталитаризма всегда фигурирует понятие «среда» («мелкобуржуазная», «серая» и пр.). Этим уникальным явлением является «деперсонифицированная среда». Причем, она пребывает в этом состоянии временно.
Две основные причины деперсонифицированности:
Первая. Вопрос личной безопасности перед Главой государства вынуждает акторов всегда находиться в алгоритме латентного достижения своих планов – «под шумок». В этом алгоритме формируются временные альянсы по интересам, группы по достижению отдельных целей. Их задачи – наиболее эффективно «прицепиться» к публичной политике, изыскать в ней ресурсы личного обогащения и, самое главное, усиления собственного ресурса власти и аппаратной силы. То есть, персона может периодически «выпадать» из процесса продвижения НТПР и подключаться к нему в зависимости от конъюнктуры.
Эта ситуация не является парадоксальной. Логичность ее заключается в том, что власть в Казахстане окончательно сформировалась как сверхпривлекательная цель.
Вторая. Сущность текущего момента заключается в том, что НТПР как таковой уже создан в предпосылках, но только приблизился вплотную к персональной идентификации. Происходит стадия «структурирования во взаимоотношениях». Временная деперсонифицированность связана с тем, что сегодня пока персонами руководят процессы, побуждая их к тем или иным действиям. Тем не менее, алгоритм складывания группы НТПР, которая перейдет в стадию способности совершить «качественный скачок», уже действует.
Опорной сферой формирования режима является «силовой блок», получивший безраздельные права через антикоррупционную кампанию к насаждению новых порядков «исключительно силового» и масштабного метода перераспределения.
Потенциальная группа НТПР сегодня – это совсем не обязательно лидерская организация, подразумевающая выдвижение одного лидера. Скорее наоборот – коллективная безопасность, коллективная круговая порука. Более того, коллективное цементирование через страх, шантаж с помощью «новой информационной базы коррупции», о которой ниже.
Об инфильтрации НТПР в высшие круги власти. Как указывалось ранее, «новый режим» действует в нескольких направлениях, дискредитируя максимальное количество политических персон и институтов. «Размывание» власти в свою пользу является основной целью НТПР.
Прежде всего, новому нарастающему политическому режиму чрезвычайно выгодно ослабление главного политического актора страны – Президента. Причина проста – он является основным препятствием к окончательному формированию и структурированию новых общественных отношений, поскольку стоит на страже тех отношений, архитектором которых являлся в течение всего периода управления государством.
Основной процесс – это воспроизводство политической уязвимости Главы государства с целью манипулирования «зонами уязвимости» в свою пользу. А также формирование в глазах Президента осознанно искаженной, непомерно благостной или гипертрофированно угрожающей картины состояния общества и поведения отдельных персон.
Пути складывания группы НТПР разнообразны. Первый метод – это «заключение альянсов». Альянсы складываются на основе экономического интереса, административного (провести решение, перераспределить полномочия), популистского («сделаем то-то, это нужно Президенту, а он не осознает»). Второй метод – «зачистка несогласных», подразумевающий очернение персон, выпячивание их ошибок, устранение их с политического «Олимпа» и пр. В том числе и тех персон, кто пользовался репутацией «личных друзей и доверенных лиц».
Существует наиболее мощный инструмент, который в определенный момент сыграет свою роль. Сегодня возникает ситуация, когда силовой блок начинает тотально контролировать информацию о том, как, на каких персонах и схемах строятся финансово-экономические холдинги крупной олигархической и административной элиты. Скорее всего, сегодня этот банк информации уже сформирован и обладает сильным разрушительным потенциалом, способным манипулировать любой персоной из высшего круга власти в стране.
Какие факторы приведут к «качественному рывку» НТПР? Прежде всего, «качественному рывку» способствует консервация текущего состояния дел в диалоге с обществом. Однако решающий момент совпадет с активной фазой деятельности зарубежных оппонентов власти к тому моменту, когда они сформируют политическую стратегию борьбы в международном пространстве. Этот фактор послужит поводом для того, чтобы выйти к Президенту с предложением создать группу «особых полномочий» или порекомендовать персону, способную провести разнонаправленную войну против «врагов власти». Основной риторикой будет уверение Президента в том, что «народ поддержит и его и эту кампанию».
Общество практически подготовлено к становлению НТПР и воспримет его появление с тотальной пассивностью трезвомыслящих и оголтелой поддержкой охлократии. В качестве инструмента будет предлагаться популизм маргинального толка, лишенный, как правило, либеральных и социал-демократических ценностей или построенный на откровенной подмене понятий.
При этом произойдет сегментирование элиты в ее массовом понимании. Часть уже сегодня эмигрирует и выводит сбережения за рубеж, часть будет «приведена к новому порядку», часть обвинена в коррупционных преступлениях и ликвидирована. С некоторыми представителями высшей элиты либо заключается альянс, либо совершается «сделка с Круппом» (лояльным корпорациям выдаются гарантии безопасности, нелояльные подлежат уничтожению и перераспределению).
Возможные пути дальнейшей реализации НПТР. Политическому курсу президента крайне ошибочно искать в процессе формирования НПТР какие-либо положительные аспекты для своего укрепления. НПТР устанавливается и действует полностью против всех складывавшихся политических традиций. Это – принципиально иная формация, основанная исключительно на маргинальном сознании и охлократии, направленная одновременно и против либерализма, и против принципов социальной справедливости, и против традиционной социальной архитектуры в целом, создаваемой Президентом в Казахстане в течение многих лет.
Вопреки стереотипу, становление НТПР – это необязательно процесс захвата власти путем «дворцового» или иного переворота. В Германии 30-годов начало тоталитаризма было обозначено вполне легитимным назначением рейхсканцлера. Возможен «мягкий силовой» сценарий: появление группы «наведем порядок» с более сильным «карт-бланшем», чем обычно, или «монархизация президента» – вывод Главы государства из политического пространства под нажимом или путем убеждений.
Выходы из сложившейся ситуации. Важным фактором в борьбе с реализацией сценария НПТР является крайний дефицит времени, имеющийся у власти. Это связано с несколькими аспектами: председательство в ОБСЕ, накопление критической массы прочтения «книги», формирование единого политического альянса «врагов режима» за рубежом. Самое главное – то, что НПТР пока доктринально, структурно и персонифицировано не оформлен, а существует лишь де-факто в виде устойчивого тренда и большинства сложившихся и достаточных условий для реализации – это вопрос короткого промежутка времени.
В кризисные периоды часто применяется понятие «парадигмы», поскольку изменения действительно требуют выработки кардинальных изменений фундаментальных социально-политических механизмов. Сегодня фундаментальным средством против окончательного формирования НТПР является формирование политического альянса Президента и общества на основе новой парадигмы.
Составляющей этой парадигмы являются: постепенная и взвешенная либерализация общества, адресная работа с социальным стратами по преодолению в них абсентеизма, аномии и формирование режима полного неприятия тоталитаризма. Необходимо создать «правила игры», в которых общество само воспроизводит защиту от радикальных сценариев передела власти. С другой стороны, взвешенность подхода требуется также и в том, чтобы избежать охлократической стихии, способной развернуть события так, что они, наоборот, катализируют именно негативные тренды в обществе.
Нужно незамедлительно и решительно положить начало постепенной, но кардинальной либерализации общества исключительно в диалоговом формате. Потребуется немедленная мобилизация всех групп населения, являющихся потенциальными союзниками в предотвращении установления в стране НПТР. Либерализация является единственным средством, поскольку лишь перед ней тоталитаризм бессилен.
Косметические меры только идут в поддержку латентному развитию тоталитаризма, поэтому необходимо подорвать фундаментальные основы возможности реализации НТПР в стране – экономические, социальные и институциональные. Сегодня политическая власть обладает достаточной силой для того, чтобы выработать и осуществить в реальные сроки конкретную программу. Эта достаточность, по крайней мере, сосредоточена в способности понимать складывающиеся негативные тенденции общества.
Такая программа будет последовательно направлена на преодоление феодализации общественного сознания, аномии граждан, профессионалов и государственных служащих, абсентеизм в избирательной системе и прочие недостатки, которые сформировали опасные условия для возникновения в стране таких угроз, как установление НТПР.
(2009г.)
- Понятие «среднесубъектности» во внешней политике.
Разработка понятия «средний субъект международной политики» является продолжением политического заявления Главы государства на Коллегии МИД 2009 года о том, что Республика Казахстан стала полноценным субъектом международных отношений. Перед экспертами стояла задача углубить теоретическое понимание понятия «субъектность» с целью ее дальнейшего применения на практике. Иными словами, чтобы данное политическое заявление получило свою детализацию в комплексе «практическая разработка стратегии на основе теории».
В общих чертах «объектность» и «субъектность» различаются между собой так же, как «управляемость» и «способность управлять». Существуют научные определения субъектности. В тесной связи с определением субъектности внешней политики Казахстана находится понятие «лидерства». Сегодня принят на вооружение термин «региональное лидерство Казахстана» в качестве как констатации опережения нами некоторых государств региона по ряду показателей, так и в виде стратегического целеполагания.
В нашем случае необходимо определить характеристики субъектности внешнеполитического статуса Казахстана. Существуют качественные и количественные показатели, которые могут оказать помощь в этом. Однако качественные характеристики часто являются спорными и неоднозначно трактуемыми. Более того, они тяготеют к тенденции «выдать желаемое за действительное». К примеру, тезисы «наша дипломатия сильнее дипломатии Узбекистана» или «казахстанская внешняя политика является лидерской по отношению к туркменской» содержат в себе, как правило, крайне размытые критерии и временную зависимость.
В то же время количественные показатели достаточно конкретны для того, чтобы на них основываться.
Для правильного позиционирования в мировом пространстве за шкалу взят не региональный масштаб, а глобальный. Это сделано потому, что региональные оценки достаточно широко известны и понимаемы, но всегда «загоняют» нас в узость центральноазиатского ракурса. Идеология «зато мы тут большие» также побуждает больше к недеянию, нежели к активному росту.
Оценка количественных показателей показала, что Казахстан обладает рядом черт крупного субъекта – это, прежде всего, территория. Данный фактор немаловажен, поскольку отсюда проистекают вторичные показатели – протяженность транспортных путей, сложность объектов коммуникаций, природные запасы, объем пахотных земель, вариативность соседства и т.д.
Другим крупным показателем являются природные запасы минеральных ресурсов. Это, несомненно, крупный показатель, поскольку по совокупности ресурсов мы являемся серьезным мировым игроком.
Этническая пестрота населения (порядка 130 этносов) также является крупным показателем, причем усиливаемым конфессиональной вариативностью и странами происхождения.
Существуют показатели, характеризующие нашу страну на среднем и малом уровнях. Это объем ВВП, население, узость рынков, количество мировых товарных брендов и т.п.
Баланс между крупными, средними и малыми показателями Казахстана позволяет поместить нас на уровень «средних субъектов» среди стран мира. Эта, казалось бы, общеизвестная постановка вопроса позволяет формулировать некоторые базовые стратегемы. Сегодня специалистами сформулированы три:
- Внешняя политика должна опираться на принцип эффективного применения ресурсов государства, ресурсосбережения и их концентрации на наиболее важных и прорывных направлениях.
Дело в том, что МИД Казахстана во многом формировался по типу МИДа СССР, поскольку у его истоков стояли профессионалы и выпускники советской школы. Это во многом сформатировало методы «всеохватности», которая была необходима СССР, но не так присуща казахстанским реалиям.
На предыдущих этапах МИДом Казахстана решалась задача экстенсивного развития – «представленность страны в мире и представленность мира в стране», которая была в целом успешно решена. Но сегодня конфигурация загранучреждений обладает некоторыми негативными последствиями этой экстенсивности.
Так Казахстан практически не представлен в «черной» Африке, Латинской Америке, не имеет достаточную представленность в Океании (к примеру, с долгосрочной перспективной создания международного картеля в сфере овцеводства с Австралией и Новой Зеландией). В то время как практически в каждой арабской стране развернуты посольства.
Таким образом, актуализируется компетентная и взвешенная политика в области конфигурации загранучреждений с определением приоритетных зон развития.
Высокую актуальность в рачительном использовании ресурсов (подразумевается организационный, дипломатический, финансовый, человеческий, ресурс международных инициатив и т.д.) повысил мировой кризис. Это не абстрактное общее обстоятельство – речь идет о том, что в условиях становления нового миропорядка Казахстан должен обеспечить себе максимально эффективное исполнение тех программ, которые приведут к его новому позиционированию в мире.
Новое позиционирование – это не только реагирование на изменение мировой архитектуры, это и умение воспользоваться разрегулированностью ситуацией в свою пользу и извлечение из нее максимальной выгоды.
- Необходимо выйти из рамок «регионализма» в видении интеграционных ориентиров.
Сегодня многие страны осуществляют оценку своего уровня субъектности.
Так эксперты России в рамках БРИК видят свою идентичность задач с Бразилией, понимая, что Китай и Индия относятся к другой более крупной категории субъектов международных отношений (к слову сказать, среди группы крупных). Новый Министр иностранных дел Израиля А.Либерман готовит к представлению новый взгляд на внешнюю политику своей страны, основанной на том, что она слишком много внимания уделяла связке с США, абсолютно упустив из внимания страны, идентичные по уровню субъектности.
Индия вновь пытается оживить Движение неприсоединения, которое успешно сформировала «третьемирское сознание» в эпоху, которую ошибочно именуют эпохой биполярного мира. «Третий мир» в те времена представлял собой ощутимый и влиятельный третий полюс. Примечательно то, что стержнем Движения неприсоединения являлись Индия, Югославия и Египет – на тот период являющиеся классическими «средними субъектами» мировой политики.
Замыкание Казахстана в рамках Центральной Азии, Прикаспийского региона и стран СНГ значительно сужают ареал распространения влияния нашей страны в мире. Классическая многовекторность в основном подразумевает деление мира «по вертикали», с учетом интересов полюсов силы, в то время как «горизонтальная модель» развития в сторону «себе подобных» содержит в себе мощный потенциал для Казахстана, не меньший, чем балансирование между мировыми державами.
- Разделение ресурсов на «рутинное» и «прорывное» поля.
«Среднесубъектное» поведение во внешней политике подразумевает то, что страна данной категории может опережать в динамике развития внешней политики «большие» субъекты. За счет чего? Прежде всего, за счет того, что мировые державы, определяющие основные тренды мировой политики, находятся при этом в определенном «статусном капкане» собственного позиционирования.
В то же время, «средний субъект» не столь ограничен в своих векторах деятельности. В случае если он умеет эффективно и превентивно действовать во внешней политике, то способен предугадывать смену трендов «больших» кораблей.
К примеру, недостаточность представленности Казахстана в «черной» Африке привело к недостаточному развитию африканистики и изучению этого континента, что не позволило опередить появление Китая на континенте. Д.Медведев, посещая Латинскую Америку, откровенно сказал, что Россия «можно сказать, вообще не была представлена на этом континенте». Казахстан, развивая «горизонтальные» связи со средними субъектами Латинского Америки мог не только расширить зону своего влияния, но и «ждать союзника» в регионе.
Алгоритм действий «среднего субъекта» подразумевает постоянный поиск «прорывных» и превентивных направлений, а после их теоретического и исследовательского обнаружения, способность собрать и эффективно двинуть ресурсы в нужном направлении. Для этого необходимо четко на теоретическом и практическом уровне распознавать «прорывные» зоны и уметь «рутинизировать» второстепенные. При этом, «рутинизация» не означает «стагнирование» – это скорее представительский алгоритм поддержания постянной достаточной температуры отношений.
Понятие «среднесубъектности» является профессиональным термином, поскольку в пропагандистской сфере может иметь неоднозначное восприятие, поэтому, возможно, ему надо найти адекватную публичную замену. Понятия «развивающаяся экономика или страна», к сожалению, не до конца отражают специфику термина. В то же время «среднесубъектность» не обладает уничижительным содержанием.
- Политика «баланса интересов» и многовекторность.
Введение в понятийный аппарат термина «среднесубъектность» позволяет Казахстану уточнить свое понимание многовекторности. Выше уже указывалось, что в самом распространенном понимании оно означает балансирование «по вертикали» между интересами центров силы и их сателлитов.
В действительности по-настоящему многовекторную политику могут проводить лишь «центры силы», поскольку их мировое позиционирование делает необходимым глобальный охват мира. Для «средних» и «малых» субъектов такой излишне глобалистский подход является расточительным. В большинстве случаев их балансирование является геополитической вынужденностью, и это нельзя сбрасывать со счетов. Тем не менее, важен именно принцип манипулирования интересами.
Таким принципом является политика «баланса интересов» по схеме 2 + N. Эта схема размывает привычное понимание двусторонних отношений в дипломатии и должно скорректировать привычный алгоритм внешнеполитического ведомства и загранучреждений.
Вкратце политика «баланса интересов» подразумевает в себе следующие алгоритмы:
- Основой политики «баланса интересов» является вариативный обмен интересами. Он означает то, что в выстраивании взаимоотношений с иностранной державой мониторится не только двусторонний срез, а присутствие в этой стране интересов других держав, в особенности мировых. Де-факто такая, политика, несомненно, реализуется и сейчас, когда речь идет о двусторонних отношениях со США или Россией. Но сегодня не столь кристаллизирована работа по сбору общего потенциала обмена.
- Потенциал обмена представляет собой постоянное и систематизированное накопление информации вроде «что и на что мы можем обменять с Россией в Чили?» или «что предложить узбекам в Австралии в обмен на решение водно-энергетической проблемы» по трем стандартным измерениям. Это и есть принципиальное смещение акцента от «двусторонки» к «2 + N», где N может быть 1 или целым рядом стран и международных организаций. Как правило, Казахстан традиционно обладает знанием «потенциала обмена» лишь на нескольких направлениях, но абсолютно упускает среднесубъектный «горизонтальный» мировой срез.
- По сути, фундаментальный алгоритм работы загранучреждений должен быть построен в прорывном направлении именно на перманентном поиске и накоплении для Казахстана «мирового потенциала обмена».
С целью мониторинга ресурсов, систематизации «прорывных» и «рутинных» направлений в проекте Концепции внешней политики введена градация приоритетов во внешней политике (А,В и С). Однако она лишь обозначена в качестве теоретической заявки, и ее тема не получила развития в самом тексте КВП, хотя часть предварительной работы была проделана.
По изначальному замыслу градация приоритетов была не трех-, а пятиуровневая, что позволяло более точно учитывать нюансы отношений с различными странами. Так в категорию «А» попадали страны, являющиеся союзниками для Казахстана (в частности, Россия). США обладали не меньшей степенью приоритетности – «В», или «партнерской», в то же время не являясь союзником.
Цель градации не была «вещью в себе», а проистекала из теории «среднесубъектности» и необходимости рачительного использования ресурсов, поскольку подразумевала законченный алгоритм выстраивания двусторонних отношений.
3. МИД – эффективный агент национальной экономики.
Исследуя возможные практические решения политики «баланса и обмена интересов» в «трех корзинах», на первый план вышло понимание того, что МИД Казахстана не столь эффективен в качестве дипломатического «агента национальной экономики». В то время как для стран такого типа как Казахстан такая роль форин офиса является наиболее целесообразной.
Однако это не совсем вина МИДа и загранучреждений. Действительно ведомство укомплектовано в основном «чистыми дипработниками», не всегда свободно оперирующими экономической тематикой. Практика показала также, что и экономический сектор действует автономно от МИД, используя его лишь как визово-протокольный организационный инструмент.
Во многом это является наследием МИДа советского типа, где «чистая политика» существовала благодаря идеологическому противостоянию в «холодной войне». Сегодня такое положение дел неприемлемо.
Не существует совместных теоретических площадок МИДа с ведомствами экономического профиля, в то время как современная ситуация требует постоянного мониторинга в мире таких вопросов, как прогнозы развития мировой финансовой системы, риски обрушения доллара, возрастание роли экономических трендов, цен и динамики перемещения капиталов по миру и т.д.
В то же время новые институты глобального управления сегодня выстраиваются на базе форумов именно экономического профиля – в частности, G20, созданная на базе форума министров финансов, плавно усилила роль Саммита в качестве мирового модератора.
В результате отсутствия теоретического и практического взаимодействия с экономическим блоком МИД теряет глубину оперативности и фундаментальность подходов в поиске «потенциала обмена» по второй (экономической) корзине. В свою очередь экономический блок не просчитывает и не руководствуется в должной степени внешнеполитическими приоритетами в определении стран инвестирования (можно привести в пример Грузию).
МИД также слабо осуществляет поиск новаторских и эффективных решений по всему миру, ограничиваясь, как правило, компилятивной информацией. В результате экономический блок часто получает информацию о новшествах из других источников или просто собственного опыта поездок, что содержит в себе риски одностороннего видения вопросов.
МИД в свою очередь не систематически не получает анализа тенденций мировых экономических отношений и национальных приоритетов Казахстана, четких сведений о том, каким отраслям и проектам требуется дипломатическая поддержка. Экономический сектор практически не формирует в постоянном режиме комплекс поддержки, необходимый от МИДа малому и среднему бизнесу, в результате чего некрупные предприниматели предоставлены сами себе как в информационной, так и в институциональной поддержке. Отдельные случаи лоббизма нельзя считать системой и государственным подходом.
4. Понятие «большой геополитический субъект».
Исследуя проблематику внешней политики Казахстана, как «среднего субъекта», и учитывая то, что в настоящее время происходит складывание новых систем мирового управления, в понятийный аппарат вводится понятие «большого геополитического субъекта». Это понятие лишь эпизодически фигурирует в КВП, в то время как достойно быть важнейшей внешнеполитической стратегемой.
Складывание нового миропорядка и новых полюсов влияния очевидно и неизбежно происходят под влиянием доминанты мировых держав. В такой ситуации «средние и малые субъекты» вынуждены проводить лишь политику реагирования. G20 подчеркнуто ограничивает свой состав «большими» странами с крупными количественными показателями. Необходимо отметить, что Центральная Азия вообще никак не представлена в «Большой двадцатке», хотя остальные регионы имеют своих представителей.
Для Казахстана формируется риск быть отстраненным от процессов мирового управления. Очевидно, что попасть в «клуб больших» вряд ли удастся в перспективе, но в то же время вопрос остаться на периферии не соответствует нашим здоровым амбициям.
Очевидно, что значительно поднять свой внешнеполитический вес Казахстан может в составе какого-то крупного интеграционного образования, например, СЦАГ. Даже Россия все более последовательно видит свои потенциал развития в «горизонтальном» союзе БРИК.
Казахстан входит в ряд крупных объединений и форумов – СНГ, ШОС, ЕврАзЭС. Однако всегда речь идет об объединении вокруг крупного доминирующего игрока (Россия или Китай). В такой ситуации принцип равенства в объединении всегда является декларативным.
Впрочем, срезов интеграции в большой геополитический субъект несколько:
- Центральноазиатский союз – наиболее очевидное направление, однако обладающее массой препятствий в реализации. Тем не менее вопрос объединения в связи с кризисом и сменой геополитической конъюнктуры поставил вопрос по СЦАГ на уровень выживаемости региональной интеграции.
- «Среднесубъектное глобальное объединение», назовем его Движение неприсоединения-2, поскольку, к сожалению, эта идея не до конца проработана экспертами МИД. Сегодня само Движение уже не соответствует изначальному замыслу, поскольку Индия уже является ощутимым развивающимся ядерным центром силы мирового масштаба.
В то же время актуальность глобального объединения «средних игроков» назрела. Оно может произойти как в массовом виде (по опыту Движения неприсоединения, в которое входя порядка 200 стран), так и в виде группы по прообразу БРИК, только на уровень ниже. Такая группа может сформировать свою группу 20-ти (только азиатская 20-ка немного ограничивает инициативу в рамках субконтинента и не отражает среднесубъектный срез).
- Определенным потенциалом обладает такая идея, как Объединение трансконтинентальных стран Евразии. Несмотря на «короткую скамейку», поскольку в такой союз по географическому положению могут войти лишь три страны – Россия, Турция и Казахстан (страны, территория которых имеет европейскую и азиатскую части) такое объединение открывает ряд новых возможностей по кавказской политике, в рамках пространства ОБСЕ, а также осуществляет сдвиг в направлении тюрко-славянский союз.
Особенно интересно это объединение видится через призму создания Организации по безопасности и сотрудничеству в Азии, актуальность которой для Казахстана возрастет в несколько раз после председательства в ОБСЕ. Казахстан не должен ослаблять тренда модераторства в ведущих международных организациях.
Однако сегодня, в силу ряда причин, в МИДе предпочитают не ставить задач дальше председательства в ОБСЕ. Трансконтинентальный подход к созданию ОБСА позволит не только привести ОБСЕ к процессу участия в ее создании (поскольку Запад заинтересован в распространении влияния вне зоны ответственности ОБСЕ), но и создать единую сеть безопасности ОБСЕ-ОБСА в перспективе.
- Можно рассматривать перспективы создания Прикаспийского объединения, однако присутствие здесь Ирана вносит определенную заданность альянсу.
Гораздо интереснее идея следования концепции Большой Центральной Азии. Эта привнесенная идея, будучи привнесенной с Запада, тем не менее обладает определенными преимуществами в плане концепции «большого субъекта. Идея БЦА в отличие от СЦАГ обладает «вертикальной по карте» структурой, где Казахстан – это север, а южным оплотом ЦА является выход на порт Гвадар в Пакистане. Эта артерия является сегодня оплотом китайского влияния, поскольку открывает КНР транспортные пути к Персидскому заливу. Одной из стержневых идей США в регионе АфПак является именно отрыв Пекина от возможностей Гвадара.
Параллельно США хотят решить задачу отрыва Ирана и Ближнего Востока от Пакистана и отдаления Китая от ближневосточного и средиземноморского бассейнов – создания карантинной зоны, в которой предстоит тщательно разобраться в роли тюркского, персидского и пуштунского этнических сегментов.
В «вертикальном смысле» ЦА начинает смотреться регионом с южным выходом к морю, в котором особую роль приобретает «вертикальный по карте транзит автомобильных, железнодорожных путей и электроэнергии.
- Во всех срезах видна ключевая роль Узбекистана, в отношениях с которым необходим реальный прорыв, поскольку от активности этой страны зависит много факторов. При этом, Узбекистан, не ослабляя попыток конкурировать с Казахстаном по социально-экономическим показателям, делает серьезную ставку на позицию военного лидера ЦА, которую пытается разыграть в Афганистане. Возможно, что одной из версий урегулирования афганского вопроса в рамках первой корзины может быть смена «крестоносцев» на мусульманских натовцев (например, Турции и Узбекистана). В этом ключе Узбекистан может получить серьезные дивиденды в отрыве от Казахстана, и для этого у него есть огромная практика участия во внутриполитических военных коллизиях Афганистана через этнических узбеков (Дустум).
Очевидно, что казахстанская дипломатия не накопила достаточного потенциала, чтобы осуществить широкофронтальную работу с Узбекистаном по привлечению их в альянс. Эта ситуация содержит в себе ряд серьезных угроз – например, по сегментированию ЦА в долгосрочной перспективе «по горизонтали карты»: Казахстан уходит в зону влияния России, а «Коканд, Хорезм и Газни» уходят под американское влияние. В таком случае мы получаем очень протяженную «горячую» южную границу и выпадаем из процесса консолидации ЦА.
Несомненно, такой план у мировых держав существует. Китай осознает «пограничность» ситуации в Гвадаре, этим и обосновывается альтернативный антииндийский «заход» Пекина в Шри Ланку, которая обязана победой над «Тиграми освобождения тамилы Илама» масштабной помощи КНР.
Создание «большого геополитического субъекта» (вернее вхождение в него на лидерских позициях) на базе ЦА способно кардинально изменить интеграционный потенциал Казахстана. К примеру, интеграция на пространстве бывшего СССР всегда будет на первый план выдвигать вопрос фактического неравноправия в ней, поскольку доминанта России очевидна. В то же время интеграция по модели «Россия плюс ЦА» обладает совершенно иным смысловым содержанием, в особенности, если интеграционный связи внутри ЦА достаточно прочны.
Такие формулы «5+1» в отсутствии ярко выраженного «центра силы» позволяют усилить перспективность таких направлений, как «ЦА + Япония», «ЦА + Индия» и пр.
В таком ракурсе становится заметно, насколько мы дистанцированы от управления внутренними процессами в странах-соседях, ведь в них практически отсутствуют такие понятия, как «проказахстанские СМИ» или «проказахстанские эксперты». Вообще, на фоне регионализации мира выглядит парадоксальным, что ЦА как единый регион структуризируют в основном извне. При этом такой вопрос, как водно-энергетический комплекс продолжает оставаться не зоной единения, а «зоной выяснения отношений с оглядкой на арбитраж внешних доминант».
5. Ежегодный доклад о внешней политике. Теоремы, стратегемы и практические методики
Вышеописанное содержит два основных вывода:
Первый – нельзя останавливаться на профессиональных исследованиях в масштабе «крупных стратегических треков». Существуют риски, что с завершением Концепции внешней политики рутинизируется или вообще прекратится концептуальный поиск в рамках МИДа. Здесь многократно возрастает роль внешнеполитических структур АП в придании форин офису импульсов в нужном направлении. Необходимо постоянно проводить процесс кристаллизации целей для МИД, при этом не только развивать уже исследованные направления, но также мониторить динамику их изменений, а также – продолжать поиски новых прорывных ракурсов, теорий и решений.
Второй – назрела необходимость развивать и оттачивать практические подходы, основанные на теоретическом изучении передовой дипломатии мира. В процессе поиска экспертами следующие методики:
- Мультипликативное целеполагание. Этот метод постоянно используется США в проведении внешней политики. Любая программа Госдепа содержит в себе два среза: по вариативности (планы «А,В,С», в зависимости от успешности. Причем «А» может кардинально отличаться по методам и сферам применения от «В»), по направлениям (наносить «удар» в точку, в которой сходятся интересы сразу нескольких игроков региона, причем разным игрокам посылается сигналы в различной плоскости) и по измерениям (каждой «корзине» ставится своя задача).
Крупные цели в свою очередь сегментируются на срезы, и получается многоуровневая система задач, которая позволяет Вашингтону достигать своих целей при любом исходе той или иной кампании. Причем часто план «В» настолько отличается от плана «А», что мир вводится в заблуждение о фиаско, в то время как США уже решили свои задачи, но в другой плоскости.
Мультипликативное целеполагание – это не просто «понимание вариативности целей в уме», а разветвленное «дерево» целей, где цели прописаны во вполне конкретных и точных формулировках.
- Управление саморегулирующимися процессами упомянуто в КВП, необходимо добавить, что такими процессами являются, к примеру, фондовый рынок, валютное регулирование, управление конфликтами, генерирование товарных и потребительских брендов, массовая культура, а также политические процессы вплоть до технологий «цветных революций».
Американское государство и внегосударственные субъекты представляют собой эффективный симбиоз государства и бизнеса, позволяющий США значительно опережать конкурентов из числа других мировых держав. Это опережение обеспечивается не только вариативностью инструментария, которая в десятки раз превышает аналогичный потенциал оппонентов, но и качеством и креативностью его организации.
К примеру, структура Пентагона DAPRA («Defense Advanced Project Research Agency» – «Агентство передовых оборонных исследовательских проектов»), занимающаяся широчайшим спектром военно-технологических разработок, готовила к запуску в 2004 году проект «Policy Analysis Market» («Рынок политического анализа»), способный рассчитывать вероятность политических событий (терактов, переворотов, убийств лидеров) на основе саморегулирующегося принципа биржи.
- В дипломатии практически не применяется SWOT анализ, адаптированный из стратегического планирования бизнеса к организации политических кампаний. В классическом SWOT анализе (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) учитываются не только угрозы и риски, с которыми отечественная дипломатия умеет работать, но и баланс показателей возможностей, слабых и сильных сторон, и что со всем этим делать.
Но главное – это работа с вероятностными характеристиками (это уже уровень прогноза) и анализом преодолимости и непреодолимости препятствий. Типичной иллюстрацией неумения работать с последним является отношение к политике с Узбекистаном, где часто дипломаты разводят руки, ссылаясь на «непредсказуемость и заданную предвзятость» внешней политики соседней страны по отношению к Казахстану.
Вопрос в том, что цель устанавливается, затем должна быть достигнута (!) с помощью всего разнообразия методов, путей, планов А,В,С, политики «обмена интересов», комплексной работы по вариативности целеполагания, перевода аргументации «из корзины в корзину» и прочая и прочая. Но цель должна достигаться! Это и есть де-факто субъектность политики – умение управлять и модерировать, а не действовать, руководствуясь лишь сложившимися условиями взаимодействия, и не гордится позитивным сравнением показателей – это удел пропаганды, а не профессиональной дипломатии.
Описываемые методики должны обязательно применяться при оценке любой внешнеполитической кампании, причем в виде простых и директивных вопросов: каков баланс SWOT показателей? КА выглядят в кампании (или идее) мультипликативные цели? Есть ли вариативность планов? Дана ли оценка преодолимости и непреодолимости препятствий? И так далее.
Причем это рекомендация не только на будущее – существует настоятельная необходимость подвергнуть мониторингу и уже реализующиеся направления, и кампании во внешней политике. К примеру, такие методики применялись при подготовке к председательству Казахстана в ОБСЕ, однако пока еще не в полной мере.
Анализ вероятностных характеристик, которые складываются из оценок основных тенденций международной политики – из прогнозирования тех условий, в которых предстоит реализовывать ту или иную цель. Необходимо особо отметить, что сегодня, в условиях глобальной «перенастройки», отечественной дипломатии недостаточно действовать на основе анализа, необходимо выходить на полноценный прогноз основных трендов мировой политики.
Вообще, как показали изыскания, внешнеполитическая мощь субъекта МО практически напрямую связана со способностью прогнозирования и, соответственно, превентивного и долгосрочного моделирования. Проще говоря, долгосрочные события просчитаны со всей вероятностью возможных путей развития и напротив каждой версии существует готовая модель действий.
Не вдаваясь в подробности анализа способностей к прогнозированию мировых держав, необходимо отметить, что для Казахстана самым оптимальными периодами являются 4 года для обновления Концепции внешней политики и 1 год для детального моделирования внешнеполитической деятельности. Из этого исходит необходимость аккумулировать анализ, прогноз и стратегическое планирование в Ежегодном докладе по внешней политике.
В результате ежегодной деятельности по его подготовке потепенно кристаллизуется концептуально-аналитический сегмент МИДа на всех уровнях – от управления до ведомства в целом. Концептуально-аналитическая вертикаль должна пронизывать всю структуру форин офиса – для креативной деятельности недостаточно замкнуть всю работу на недавно созданном Комитете внешнеполитического анализа и прогнозирования. Фундамент вертикали существует в виде Рабочей группы по подготовке КВП-2009. Туда, помимо аналитически мыслящих сотрудников МИДа вошли еще и аналитики некоторых загранучреждений. Однако сегодня существует опасность, что концептуальная деятельность может остановиться на стадии «написать, сдать и забыть на 4 года». Это представляется недопустимым.
Особенную важность прогноз представляет в области фундаментальных тенденций, в частности в изучении реализующихся моделей многополярности, которая сложится в посткризисный период. Это важно для того, чтобы Казахстан не просто перепозиционировался в мире, но и вышел на новые рубежи.
Сегодня существует много мнений, относительно того, «сколько-полярность» мира установится в будущем. Экспертами сделаны выводы о том, что мир, безусловно, сложится в многополярную систему.
Возможные модели этой многополярности следующие:
«Солидарный мир». Основными характеристиками «солидарной многополярности» являются:
- Объединение «центров силы» в единый клуб на основе достигнутого консенсуса;
- Солидарное распределение ролей и сфер ответственности в различных регионах мира («жандармы», «переговорщики», «доноры», «экономические модераторы», политические арбитры и др.);
- В особо важных регионах и зонах конфликтов предусматривается объединение усилий, согласованность действий и консенсусное распределение политических и экономических дивидендов в случае победы и коллективной ответственности в случае неудачи;
- Основным политическим трендом становится жесткое усмирение стран-изгоев, выражающих свое полное несогласие с «правилами игры»;
- Основным дипломатическим трендом в «солидарном мире» являются дискуссии в процессе уточнения ролей и контуров консенсуса;
- Мир приобретает вертикальную управляемость. Остальным странам навязывается второстепенная и периферийная классификация. Общность целей «центров силы» становится базовым принципом, согласно которому попытки прорыва или выхода из навязанного статус-кво со стороны средних субъектов будет подавляться совместными усилиями.
«Картельная многополярность» представляет собой более архаичную форму. Ее основными контурами являются:
- Объединение «центров силы» в единый клуб на принципе равенства;
- Категоричное непризнание лидерства США;
- Сутью картельного соглашения становится разделение мира на «канонические территории влияния», достижение консенсуса по вопросам «буферных» и «колеблющихся» территорий и регионов;
- На своих «канонических» территориях каждый «центр силы» стремится стать субъектом тотального влияния, что подразумевает исполнение полного спектра ролей лидера и принятия на себя ответственности. Попытки вмешательства других «центров силы» в дела «канонических» территорий, будут восприниматься как вмешательство и нарушение договора о консенсусе;
- Основным политическим трендом становится борьба за «канонические территории», которая приобретает все более латентные черты. Латентность имеет целью не утерять основную ценность – базовый договор о едином клубе мирового управления. Процесс становления территориального консенсуса пройдет в условиях жесткого подавления «буферных» и колеблющихся стран всем доступным арсеналом – требованием «определиться с приоритетами», политическими провокациями, экономическим давлением, военным вмешательством;
- Основным дипломатическим трендом станет жесткий и детальный взаимоконтроль членов картеля над действиями друг друга. Внутри «канонических» зон влияния дипломатическим трендом станут «принуждение к согласию» с новым миропорядком, закрепление государств-сателлитов и периферийных стран;
- Мир приобретает управляемость через картельную структуру с горизонтальным распределением власти между «центрами силы».
Тренд складывания «картельного» типа является основным на текущий момент, пока не сложатся необходимые условия для достижения «центрами силы» консенсуса по базовому распределению «канонических» территорий влияния. Складывание миропорядка по этому сценарию предполагает дальнейшее углубление процессов частичной деглобализации по континентальному и региональному срезам.
Анализ развития международной ситуации указывает, что наиболее вероятна смешанная форма многополярности, совмещающая в себе признаки обоих описанных типов. Этот вид определяется как «концерт мировых держав».
Его основными характеристиками являются:
- Объединение «центров силы» в единый клуб мирового управления на основе консенсуса;
- Основным модератором и организатором консенсуса выступят США, за которыми будет признано «объективное лидерство». Однако публично это лидерство будет преподноситься в виде роли «первого среди равных»;
- Распределение ролей среди держав рассматривается через призму «канонических территорий влияния». То есть в каких-то регионах, к примеру, Россия может играть роль «жандарма», а где-то «переговорщика» или «экономического модератора». Решение о характере исполняемой роли принимается консенсусно;
- Тактические цели «концерта» – формирование корпуса «второго эшелона» из числа средних субъектов международной политики, как базовой опоры миропорядка.
- Основной политический тренд – «приведение остального мира к согласию» с формируемым миропорядком, согласованная жесткая политика по отношению к странам-изгоям и внегосударственным радикальным субъектам. Основное направление давления – на средние субъекты международной политики с целью недопущения их глобальной политической интеграции;
- Мир приобретает вертикальную управляемость.
Формирование «солидарной структуры» и «концерта» по сути, представляет собой адаптированные модификации «нового мирового порядка США». Мир в нем представлен в виде единого вертикально управляемого социума. Отличие «концерта» от монополярного мироустройства заключается в том, что лидерство США возникает не в результате проведения односторонней политики, а вследствие достижения согласия между мировыми державами. Оно будет существенно ограничено условиями консенсусного договора.
Общими тенденциями для всех типов многополярности являются:
- Борьба за место в классификационной иерархии. Она пройдет в условиях стремления ограничить как список «центров силы», так и эшелон средних субъектов;
- Создание новых форматов структур ООН, Организаций и Договоров по безопасности, в частности, ДНЯО. Военные потенциалы максимально сосредоточатся в «клубе мирового управления», а для остальных субъектов будут введены дополнительные регламентирующие нормы. С целью правового закрепления «канонических территорий» может быть восстановлен Комитет по опеке при ООН, ликвидированный в 1994 году. Его упразднение символизировало собой исчезновение «канонической» зоны влияния СССР;
- Процесс складывания миропорядка будет сопровождаться беспрецедентным давлением на средние субъекты международной политики.
Очевидно то, что окончательное прогнозирование не закончено, так же как и не завершено оттачивание принципов взаимоотношений внутри моделей.
Вынужденная и неизбежная необходимость ориентирования на политику центров силы в процессах складывания миропорядка (а необходимо отметить, что эти процессы займут достаточно длительный период и их дальнейшая эволюция не будет являться «законченным» актом) приводит к тому, что некоторые понятия мы должны подвергнуть переосмыслению. Одними из таких понятий являются сателлитарность и марионеточность.
В отличие от марионеточности сателлитарность обладает не только негативной составляющей. Часто это просто определение развития в рамках доминирования «центров силы». Сателлитарность не является характеристикой утраты субъектности. Прежде всего, по причине того, что зависимость «центра силы» от других стран является процессом взаимным. Понятие «сателлитарности» представляет собой максимальное использование союзнических и партнерских договоров в собственных национальных интересах. Примерами выгодной сателлитарности во внешней политике являются отношения США – Япония, США – Великобритания, США –Канада и т.д.
Сателлитарность может осуществляться на долгосрочной основе и на период политического периода или кампании. Сегодня президент Франции Н.Саркози, сняв с повестки дня ряд противоречий между США и Францией, пойдя на определенную сателлитарность своей политики по отношению к Соединенным Штатам и получив их поддержку, за короткий период создал бренд оперативного и эффективного урегулирования и посредничества в конфликтах, имеющих глобальное значение. Такая политика позволила Н.Саркози значительно отодвинуть на второй план неоднозначную внутриполитическую ситуацию, сложившуюся во Франции к моменту его избрания.
Возможности эффективной реализации политики сателлитарности содержатся в том, что в условиях глобальной конкуренции «центры силы» значительно ограничены в своих действиях в тех странах, которые осуществляют по отношению к ним публичное политическое оппонирование. Такими странами, например, для России являются Украина, Грузия, страны Прибалтики, Польша и т.д. В то же время, Казахстан не так ограничен инструментарием и ресурсами в этих странах, что предоставляет возможность осуществления «обмена интересами» с Россией в этом ряде стран. Иными словами, можно быть «послушным учеником», а можно стать для сильного партнера «региональным авианосцем», «разведчиком» и «толмачом».
В условиях складывания полюсов глобального влияния вокруг «центров силы» проведение политики сателлитарности является практически неизбежным для стран «средних субъектов» в силу объективных причин. Выпадение Казахстана в разряд внешнеполитической периферии противоречит национальным интересам страны, поэтому внешняя политика должна быть ориентирована на извлечение максимальной выгоды из сложившейся ситуации с целью формирования новых лидерских контуров РК.
Сателлитарность не представляет собой «марионеточность». Марионеточность подразумевает полную потерю государством управления внешней политикой в интересах другой страны. Феномен сателлитарности должен всемерно изучаться казахстанскими экспертами по внешней политике, независимо от того, будет ли такая стратегия применяться на практике или нет. В особенности по тому, что часто необязательно быть перманентым сателлитом, достаточно часто проводить сателлитарную политику.
*****
Все описанные в данном документе теоремы и стратегемы не являются новациями – большинство методов и подходов осознаются и применяются казахстанскими дипломатами на деле. Вопрос в том, что концептуальный подход не является постоянной и системной парадигмой деятельности дипломатии. Такая ситуация должна быть решительно преодолена на фоне всей сложности задач современности.
Здесь произведена компиляция из теоретических разработок, собранная в 5-ти основных направлений, каждое из которых представляет собой определенный стратегический трек, но при этом находится в тесной взаимосвязи. В свою очередь эти треки требуют, помимо теоретической кристаллизации, массированного эмпирического подкрепления, с целью их подтверждения или коррекции.
Роль системного модерирования процессов теоретического и практического поиска может сыграть постановка со стороны АП магистральных задач на Коллегиях МИД (в том числе и расширенных), ежегодный Доклад по внешней политике, создание межведомственных площадок, а также ежедневное взаимодействие казахстанских структур, задействованных в реализации внешнеполитической деятельности.
(2010г.)
Оценка текущей ситуации
На протяжении последнего года практически все знаковые инициативы властных структур были подвергнуты массированным информационным атакам со стороны радикальной оппозиции. Кроме того, были предприняты попытки эскалации ряда внутриэлитных конфликтов путем использования СМИ.
К числу наиболее знаковых атак можно отнести:
- критику проекта Доктрины национального единства и публикацию альтернативной Концепции национальной политики;
- политизацию трудового конфликта в городе Жанаозен;
- критику инициативы по передаче в аренду Китаю земель сельхозназначения;
- демарш против участия Казахстана в Таможенном союзе;
- осуждение инициатив Казахстана в рамках председательствования в ОБСЕ;
- критику инициативы по наделению Н. Назарбаева статусом Лидера Нации;
- инициативу импичмента действующего Президента РК.
В результате этих атак принятие ряда политических решений было осложнено, а по некоторым и вовсе стало невозможным. Нанесен урон имиджу крупных государственных деятелей, и, в более широком смысле, уверенности в способности власти контролировать ситуацию в республике. Самой примечательной тенденцией в ходе информационного противостояния стал переход радикалов к использованию «языка ультиматумов» по отношению к власти. Постоянные угрозы инициирования массовых выступлений стали едва ли не нормой.
Существенное влияние на ситуацию оказали внешние факторы. С одной стороны, председательство страны в ОБСЕ, участие в создании Таможенного Союза, завершение строительства газопровода в КНР, усиливают позиции Казахстана на мировой арене. С другой – делают его объектом пристального внимания со стороны ведущих геополитических центров. В результате интересы внешних игроков и отдельных казахстанских элитных групп смыкаются: первые пытаются путем работы с разными частями элиты оказывать влияние на внешний курс Казахстана; вторые стремятся приобрести внешнюю поддержку и использовать ее во внутриполитической конкуренции.
В этом плане существенное значение приобретает казахстанская политэмиграция. Ряд ее представителей способны: во-первых, выступить связующим звеном между элитными (контр-элитными) группами в Казахстане и внешними игроками; во-вторых, взять на себя «грязную» часть работы по дестабилизации ситуации в Республике.
Судя по содержательному анализу атак, в их основе лежит ожидание со стороны элитных групп Казахстана смены высшего руководства Республики, в связи с которой вероятна трансформация политического и экономического пространства страны. Наделение Н. Назарбаева статусом Лидера нации способствовало еще большей эскалации борьбы за будущее влияние.
При этом наибольшее критическое значение для текущей и будущей ситуации в Республике приобретают:
- представители бюрократии высшего ранга, понимающие ограниченность своих возможностей по захвату реальных властных рычагов в действующей политической системе. Дестабилизация ситуации дает им шанс укрепить свой внутриэлитный статус, а также получить более удобные исходные позиции в борьбе за верховную власть;
- маргинальные слои (прежде всего, внутренние мигранты и оралманы), по определению носящие внесистемный характер и, соответственно, при определенных условиях способные на предельно радикальные действия. Дестабилизация ситуации дает им шанс выровнять свое положение относительно других социальных групп.
Тактическое объединение данных групп, наметившееся в рамках рассматриваемого периода, способно привести к непредсказуемым последствиям даже для указанных представителей бюрократии, наивно полагающих, что они могут длительное время использовать маргиналов в своих целях.
В целом, все это свидетельствует о масштабном кризисе управления, сложившемся в сфере внутренней политики. Несмотря на то, что в Казахстане существует единый источник принятия внутриполитических решений (Президент), отсутствует эффективная система работы в сфере внутренней политики.
Центры выработки идеологических инициатив
В настоящее время существует несколько центров, формирующих рамки информационно-идеологического сопровождения деятельности государственных органов: Отдел внутренней политики Администрации Президента, Совет безопасности, Ассамблея народа Казахстана, Канцелярия Премьер-министра, Министерство связи и информации, Министерство культуры, Министерство образования и науки; а также, на правах «партии власти» – НДП «Нур Отан».
Данные центры находятся в состоянии конкуренции, конфликта политических и статусных интересов. Более того, некоторые из них могут использоваться критически настроенными представителями бюрократии высшего ранга в силу того, что в Казахстане важнейшие политические решения принимаются кулуарно, на основе консенсуса лидеров элитных групп, а не на базе разработанной идеологической доктрины. Соответственно, официальным центрам выработки идеологических моделей отводится преимущественно техническая роль: оформление принятых консенсусных решений в конкретные политические документы.
Обострение конкуренции между элитными группами сводит к нулю шансы достижения компромиссов практически по всему спектру внутриполитических вопросов. Вследствие чего и происходит разбалансировка взаимодействия между официальными идеологическими структурами, разворачиваются противоречащие друг другу информационные кампании, появляются взаимоисключающие документы.
Интеграция усилий по информационно-идеологическому сопровождению власти должна обеспечиваться на уровне ответственных чиновников Администрации Президента, Канцелярии Премьер-министра и Центрального аппарата НДП «Нур Отан». Однако все эти фигуры аффилированы с различными, конкурирующими между собой элитными группами, а, кроме того, зачастую находятся в острой конфронтации друг с другом лично – и потому по определению не способны к конструктивному взаимодействию.
Кризис в сфере внутренней политики чреват серьезным обострением ситуации в республике накануне и в период нового избирательного цикла. Слабость власти подталкивает оппозицию и стоящие за ней контр-элитные группы ко все большей радикализации требований, а затем и действий.
Рост внешнего давления на внутриполитические процессы должен быть уравновешен централизацией информационно-идеологических инструментов, рычагов у одного источника. Все более возрастающее давление внутриэлитных групп на процесс выработки и реализации информационно-идеологических стратегий также требует поиска новых компенсаторных механизмов. Перевод большей части существующих идеологических центров в формат экспертных структур был бы полезен для разрешения сложившейся ситуации. Централизация полномочий в информационно-идеологической сфере на аппаратном уровне является еще одним способом решения проблемы. В тоже время существует риск создать еще одну формальную, неработоспособную структуру.
Технически более простым представляется усиление Отдела внутренней политики Администрации Президента с его непосредственным подчинением заместителю руководителя АП по внутренней политике. Ключевое значение здесь имеет личностный фактор: какая из действующих политических фигур смогла бы технически грамотно трансформировать внутриполитическую повестку, занять пост заместителя руководителя АП по внутриполитическим вопросам и, одновременно, возглавить усиленный Отдел внутренней политики.
Прогнозы развития ситуации в идеологической сфере
Казахстанская политическая реальность, расстановка сил в рамках нее, а также предстоящие электоральные компании позволяют выделить ряд процессов и тенденций, вероятных в ближайшем будущем:
- в рамках подготовки к выборам оппозиция активизирует работу по подрыву внутриполитической легитимности власти. Разрыв между высокими социальными ожиданиями и уровнем существующего потребления порожден социал-популистскими лозунгами избирательных кампаний прошлых лет. Оппозиция будет продолжать курс на делегитимизацию власти через формирование в широких социальных слоях образа «обворованного властью народа-рантье» и вытекающих отсюда социальных требований;
- из-за того, что правила игры в рамках предстоящих выборов до сих пор не определены, вероятна радикализация умеренной оппозиции в преддверии начала нового избирательного цикла;
- радикальная оппозиция активизирует работу, направленную на подрыв монолитности элиты: вероятно, провоцирование конфликтов между ключевыми политическими фигурами. Формирование нескольких внутриполитических неформальных центров влияния (по украинскому образцу) дает шанс радикальной оппозиции вернуться в политическое пространство республики в качестве состоятельного элемента;
- переход радикальной оппозиции на национал-патриотическую платформу, подготовка «оранжевого» сценария захвата власти;
- в стремлении к увеличению влияния будет иметь место обострение внутриэлитной борьбы за ключевые кадровые посты с использованием внешнего и внутреннего давления на Президента. Повышение ставок во внутриэлитной борьбе (по аналогии «проигравший потеряет все»). Использование идеологических рычагов для завоевания и удержания политического статуса;
- продолжение поляризации общества по социальным, языковым, региональным, профессиональным линиям разлома. Консолидационные возможности от объединения провластных партий в 2006–2007 годах сегодня уже исчерпаны. Власть вынуждена предпринять попытки к поиску нового формата функционирования «президентского большинства».
В результате существующих тенденций появляются сомнения относительно способности власти сохранять контроль над внутриполитическими процессами. Подобные сомнения порождают осложнения внешнеполитического характера и тем самым создают благоприятную почву для процессов дезинтеграции страны.
Учитывая сжатость сроков подготовки к очередному избирательному циклу, перед информационно-идеологическими структурами стоит острая проблема переформатирования всего идеологического пространства, смены базовых положений внутриполитической повестки.
(проект, 2010г.)
Основным социально-политическим содержанием публичных выступлений Главы государства в последнее время, включая Послание 2010-го года, являлась необходимость перехода парадигмы мышления казахстанского общества на посткризисные рельсы. Главным содержательным элементом этого является процесс моделирования посткризисного периода развития для Казахстана.
По характеристикам изменений, которые повлек за собой глобальный кризис, можно уверенно утверждать, что они носят фундаментальный характер. Следовательно, подходы к моделированию посткризисного развития страны также должны пройти через анализ и переоценку всего накопленного потенциала, традиционно сложившихся методов, в частности методов политического управления.
Такое фундаментальное переосмысление предоставит возможность создать те условия, которые в современной ситуации позволят Казахстану не просто мобилизовать свои ресурсы для стабилизации и укрепления процесса развития, но и совершать своеобразные прорывы в различных областях деятельности государства и нации в целом.
Сегодняшнюю общественно-политическую ситуацию можно охарактеризовать следующим образом – глобальный кризис создал в стране ряд «моментов напряжения», преодоление которых обусловлено последовательным исполнением антикризисных программ руководства страны. В то же время необходимо признание того, что кризис обнажил проблемы чисто отечественного происхождения, накопленные за годы независимого развития. Следствием этого «проявления» явилась реализация ряда угроз и вызовов политического характера, как то:
- постепенное повышение температуры протестности населения, выраженное в расширении вариативности социальных групп в них участвующих – т.н., новые протестники – дольщики, трудовые коллективы и профсоюзы, предприниматели, теряющие бизнес, протестные очаги, сложившиеся вокруг громких судебных процессов и т.д.;
- «новый разлом» в процессе раскола элит, приведший к возникновению внешнего альянса лиц, скрывающихся от казахстанского правосудия за рубежом и обладающих обширным финансовым, информационным и организационным потенциалом;
- радикализация риторики оппонентов власти вокруг основополагающих понятий государственности – «нация», «суверенитет», «земля», «межэтническая и межконфессиональная стабильность», «национальная безопасность», «политический строй»;
- резкое расширение применения и характера рейдерства, все более концентрирующегося сегодня вокруг правоохранительных органов, осуществление «новой волны» перераспределения собственности и т.п.
Сложность указанных проблем демонстрирует то, что их преодоление не находится в прямой зависимости от того, будут ли преодолены временные трудности кризиса в стране. Скорее существует необходимость их редуцирования путем грамотного и целенаправленного устранения источников происхождения.
Данная работа не ставит перед собой задачи квалифицированного и подробного описания новых явлений в обществе, иллюстрируя лишь наиболее типичные. В то же время и этот ряд примеров демонстрирует обострение социального протеста в обществе, которое необходимо «снимать» с целью устранения препятствий к успешной реализации долгосрочных стратегических планов руководства государства.
С этой целью необходимо сегодня выявить ряд системных недостатков в государственном управлении и их последствий, чтобы не «тащить» их за собой в посткризисный этап развития страны.
Одной из важнейших проблем периода является то, что поиски оптимальной системы государственного управления, оценки ее объективных промахов и неудач, которые лежат в основе тех или иных социальных «горячих точек», к сегодняшнему дню переживают не лучший этап своего развития. Об этом свидетельствует то, что правящая политическая система хронически проигрывает войну бюрократизации общества, подразумевающую не столько рост количества чиновников и формальных процедур, сколько падение профессионализма служащих госсектора на фоне роста вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, сопровождающихся широким общественным резонансом, что в результате приводит к недостижению основных общественно-политических целей и репродуцирует социальную напряженность.
Во многом это связано с проблемами принципов государственного управления в целом – функционирования механизма исполнения политического курса, основным содержанием которого, к сожалению, стала интерпретация отчетности, а не прямой социально-политический эффект.
Объяснения неудач сводятся и политиками, и экспертами от политологии в основном к деятельности и негативному влиянию крупных ФПГ в стране, то есть через призму функционирования и столкновения их интересов. В целом это реактивная позиция, которая лишь констатирует происходящее и реагирует на произошедшее. Такие подходы исключают возможность проактивного воздействия на развитие процессов, на основе отсутствия каких бы то ни было внятных прогнозов. Пока система балансирует на эмпирическом потенциале и сосредоточена на предугадывании реализации интересов тех или иных ФПГ.
Фактически в решении тех или иных вопросов, даже проблем политического характера, вопрос «как?», видится с точки зрения поведенческих ситуативных решений, а не через призму противопоставления угрозам долгосрочного и продуманного алгоритма, который бы не позволил такого рода проблемам возникать и впредь.
Это говорит о том, что основные проблемы сосредоточились вокруг главной функции политического строя – эффективном политическом управлении. Фактор «целесообразности», «прагматизма» перемещен из сферы системного управления обществом, как правило, в плоскость соизмерения интересов крупнейших ФПГ.
В то же время такая концентрация серьезных угроз и вызовов не характеризует сбой «запущенность» процессов. Казахстан за время своего независимого развития накопил достаточно знаний и опыта, чтобы разработать эффективные подходы к управлению обществом на инновационной основе. Причем это будут собственные теоретические разработки, которые необходимо будет апробировать в эмпирическом поле и реализовать.
К сожалению, в казахстанском обществе модернизация и инновационность часто воспринимаются через технократическую призму, редко рассматриваясь в общественно-политической среде. Существует лишь доминанта PR способов управления общественным сознанием, однако такая доминанта нередко приводит к подмене понятия «управление», понятием «пропаганда» или «сознательное искажение отчетности (истинного положения вещей) перед политическим руководством».
При этом в стране в системе государственной службы наблюдается практически полное отсутствие современных методов управления человеческими ресурсами, что неизбежно приводит к падению уровня профессионализма среди госслужащих. В социологических исследованиях, которые призваны формировать обратную связь с обществом, вместо мониторинга реальных настроений, предпочтение отдается психопрограммирующим технологиям, что нивелировало значение этой социальной науки для государственного управления.
Таким образом, основная цель данного доклада видится в необходимости продолжения теоретического поиска эффективной модели посткризисного государственного управления социально-политическим полем на основе инновационных подходов.
В период глобального кризиса в мировом общественном сознании сомнению подвергнуты не только традиционные способы управления, фундаментальные идеи рынка и баланс между либерализмом и командным государственным управлением общества, когда даже в ведущих странах мира отсутствуют референтные модели для подражания. В таких условиях перед Казахстаном стоит задача создания собственной парадигмы госуправления, не ожидая, когда эффективные рецепты придут со стороны.
1.
Как известно основные принципы государственного управления зиждутся на правовой базе страны, в основе которой лежит Конституция, закрепляющая за ветвями власти их политические функции и сферу компетенции. В то же время нормативно-правовая база является каркасом, на который накладываются общественные отношения, в свою очередь определяемые принципами политического управления. Такой каркас не способен в точности и полностью отражать характер социальных взаимоотношений в обществе – это достаточно гибкая система, позволяющая в зависимости от ситуативных или долгосрочных целей наделять те или иные институты определенными целевыми функциями. Чаще всего это политические задачи.
Наиболее яркой иллюстрацией является появление у государственных институтов особых функций во время предвыборных кампаний.
При позитивном развитии событий сегменты управления по достижению цели возвращаются в свои изначальные правовые рамки, при негативном – за ними прочно закрепляются т.н. «несвойственные» функции, которые могут привести к кризисным явлениям.
Нечеткая грань между политическими и функционально-правовыми задачами порождает размытость оценок эффективности государственного управления в социально-политическом пространстве. Часто причиной этому является подмена понятий между социально-политическим и функциональным значением результата.
Более того, является общеизвестной постоянная тенденция бюрократии к воспроизводству трех самых негативных последствий для общества: нефункционального роста чиновничества, бюрократизации процедур и исполнения государственных услуг, а также коррупции.
Поэтому периодически система управления должна подвергаться мониторингу соответствия не столько правовому статусу, сколько соответствию политическим целям и задачам.
В Казахстане за последние 5 лет на различных уровнях госуправления сложилась ситуация, когда доминирующим методом управления является «прямое администрирование». В особенности это касается высших звеньев политического управления четырех основных субъектов – Администрации Президента, Правительства и его ведомств, ФНБ «Самрук-Казына» и правящей партии «Нур Отан». Следует отметить, что многоступенчатое прямое администрирование с правовой точки зрения в основном присуще Правительству, как основному сегменту исполнительной власти.
Прямое администрирование со стороны Администрации в основном сложилось в 2005-году, когда в условиях президентских выборов АП играла роль политического штаба, и такая концентрация управленческих ресурсов была оправдана. Тогда фактически отделы АП могли «через голову» ведомств управлять низшими звеньями госаппарата, напрямую редакциями СМИ, районными администрациями и пр.
В дальнейшем прямое администрирование кристаллизировалось в период наступления кризиса в виде доктрины «ручного управления», когда назрела необходимость тотального контроля над расходованием государственных средств и исполнением антикризисных программ.
Ситуация усилилась ростом конкуренции ФПГ, стремящихся максимально усилить политический потенциал любой даже чисто хозяйственной должности.
В результате этого возник ряд негативных явлений, таких как дублирование функций, усиление несвойственных функций отдельных ведомств, необоснованная политизация органов управления, размывание граней ответственности за состояние госуправления в целом.
Правительство и ФНБ «Самрук-Казына» перешагнули рубежи ограничения принятия политических (а также внешнеполитических) решений. Правящая партия, являясь стопроцентным «акционером» Мажилиса, в свою очередь стремится получить свой сектор прямого управления, создавая дезорганизацию приоритетов в сознании общества. Холдинговое управление государственными СМИ переформатировало управление ими из режима творческой конкуренции в режим командно-административной вертикали.
Одним из основных показателей проблем госуправления является то, что административная реформа фактически осталась без квалифицированного подведения итогов, вследствие того, что критерии ее эффективности были размыты и подменены критериями распределения ресурсов политического влияния ФПГ и отдельных чиновников.
Традиционной системы контроля над исполнением поручений по всей вертикали государственного аппарата оказалось недостаточно для ответов на простые вопросы – достигнута политическая цель в результате кампании или нет.
Описываемая ситуация неприемлема с точки зрения задач посткризисного развития Казахстана, поскольку содержит в себе больше черт ситуативности нежели системного строительства.
С точки зрения общих управленческих принципов можно утверждать, что наличие такого комплекса проблем представляет собой угрозу для основы политического строя – эффективной системы принятия решений, в частности решений Главы государства.
2.
Очевидно, что главной задачей повышения эффективности государственного управления в целом является оптимизация ее основного политического сегмента – Администрации Президента. АП представляет собой институт реализации политического управления в стране, следовательно, речь идет о совершенствовании его методов путем привлечения современных инновационных технологий.
Одним из таких методов является Система сбалансированных показателей (ССП или BSC – balance scorecard), широко применяемая в стратегическом менеджменте. Основоположниками метода являются Р.Каплан и Д.Нортон, которые разработали его в 1990 году на основе исследований деятельности 12 крупных компаний.
Система распространена в управлении крупных корпораций, синергетических холдингов и зарекомендовала себя в способности быть адаптированной к управлению государственными органами, общественными организациями и в отдельных странах даже муниципальными образованиями и федеральными субъектами.
В Казахстане ССП применена в Концепции устойчивого развития, утвержденной Указом Президента № 216 от 16 ноября 2006 года, а также в легла в основу развития г.Астана.
Комплекс стратегических планов государства, Правительства и отдельных ведомств также подразумевает широкое применение ССП, поскольку основан на принципе управления через достижение конкретных результатов (в частности, бюджетирование, ориентированное на результаты – БОР).
Интерес к ССП со стороны политиков и государственных управленцев обусловлен способностью системы оценивать и вести учет нематериальных активов и сложностью их оценки в денежном эквиваленте или в виде числовых показателей.
При этом, в теории стратегические планы в управлении муниципальных образований или государственных структур рассматриваются в качестве договора общественного согласия. Подразумевается то, что общество разделяет с властью формулирование конечных целей.
В сущности ССП является инструментом реализации любой стратегии, вроде распространенного в последнее время в Казахстане понятия «дорожной карты». Однако ее несомненным преимуществом является способность оценки нематериальных активов, в качестве которых в политическом управлении могут фигурировать социально-политические параметры.
Сегодня очевидно то, что в системе государственного планирования существует явный перекос в сторону экономических, финансовых и операционных данных – тех, что могут исчисляться в «твердых» цифрах. Это обусловлено несколькими факторами:
- во-первых, существует определенная инерция определения развития показателями советской школы, хотя справедливости ради необходимо отметить, что в своей теории советское планирование руководствовалось не только «валовыми показателями», а разработало протомодель ССП в виде математического исчисления межотраслевого баланса;
- во-вторых, теоретические разработчики показателей чересчур буквально воспринимают лозунг «сначала экономика, потом политика», в результате чего нет развития явлений, трудно исчисляемых цифрами;
- в-третьих, целевой интерес чиновников буржуазного толка выражен, как правило, в финансовых показателях, и это, так или иначе, сублимируется на всю вертикаль разработчиков системы показателей.
При этом теоретики стратегического менеджмента вполне определенно считают, что собирать только финансовые и операционные данные – это специфика мелких и средних предприятий. Возможно, такой подход является социальным последствием того, что большое количество нынешних управленцев являются выходцами из малого и среднего бизнеса и не утратили его стереотипов. Концентрация внимания на финансовых и операционных данных неизбежно приводит к фокусированию внимания на сиюминутных задачах. В этом отношении показателен пример игроков с Уолл-стрит, деятельность которых ориентирована именно на краткосрочные показатели, потому что ориентировано на извлечение «быстрой прибыли» через биржевые котировки.
Наконец, немаловажным фактором ССП является то, что это именно сбалансированная система, отражающая причинно-следственные связи и определения того, насколько реализована миссия и достигнуты цели. Это важный аспект, потому устойчивой является та политическая система, которая наиболее прочно стоит на балансе интересов общества и его основных акторов.
Прежде чем перейти к вопросу адаптации Системы сбалансированных показателей к политическому управлению, необходимо ответить на такие вопросы: а не является ли применение ССП в общественно-политической сфере лишь квази-модернизационной экзотикой? Насколько противопоставлено друг другу командно-иерархическое и «рыночное» управление в современных условиях?
До глобального кризиса сторонники «рыночных» продвинутых технологий, как правило, клеймили командную синергию в пользу либеральных моделей по ряду параметров. Например, считалось, что командно-иерархическому способу присущи следующие негативные черты:
- Низкая оперативность в системе принятия решений;
- «Естественная» неспособность бюрократии эффективно управлять;
- Высокие издержки управления;
- Неразвитость системы личной мотивации на всех уровнях и во всех сегментах управления;
- Низкая заинтересованность в обучении людей, поскольку предпочтение отдается инструкциям и нормативным актам;
- Высокие риски сокрытия информации и так далее.
В то же время теоретики считали, что позитивную роль играют следующие факторы:
- Регулятивное действие «скрытой руки» рынка;
- Ставка на предприимчивость;
- Ориентация на интересы потребителя, как основного регулятора алгоритмов и так далее.
Даже несмотря на то, что эти определения касались управления корпорациями, они так или иначе экстраполировались на общие управленческие принципы, поскольку все кадры воспитывались в либеральном духе фундаментальных идей рынка.
Однако уже до глобального кризиса разработчики пришли к выводу, что именно сочетание иерархического синергетического и либерального креативного управления дает наиболее положительные результаты.
Этот аспект наиболее важен, поскольку в плоскости государственного политического управления большинство политиков и экспертов также склонны довольно примитивно противопоставлять командно-иерархическую систему либеральной. Там, где иерархическое управление очевидно пробуксовывает немедленно предлагается комплекс мер, который принято рассматривать в качестве либерализации, как панацеи от ошибок синергии.
Глобальный кризис убедительно продемонстрировал то, что «скрытая рука рынка» (как экономического, так и политического) содержит в себе не меньше угроз для управления государством, нежели строгое иерархическое управление. При этом, как указывалось выше, референтных моделей для подражания еще не изобрел никто.
В таких условиях понятие сбалансированного управления может сыграть роль того эффективного инструмента, который поможет эмпирически выработать оптимальное сочетание двух методов для того, чтобы стимулировать развитие общества в поступательном режиме, несмотря на кризисные потрясения.
3.
Насколько успешно может ССП быть адаптирована к политическому управлению и приобрести контуры ССПП (Системы сбалансированных политических показателей)?
В первую очередь в пользу этого утверждения говорит упомянутая выше способность системы учитывать нематериальные активы. В бизнесе под такими активами подразумеваются навыки и опыт персонала, лицензии и патенты, наличие известных марок и брендов и прочее, которые объединяются в компетенции – ключевые организационные ресурсы, способные сформулировать конкурентные преимущества. Компетенции исходят из совокупности внутренних ресурсов организации, в данном контексте – страны, нации.
В бизнесе отличают три типа компетенций (т.н. «ядерных» или «корневых компетенций»): технологические, надежности процесса и близких внешних контактов. В первом приближении очевидно, что основные компетенции государства также заключены в трех измерениях: инновационного потенциала роста экономики, многоаспектной устойчивости социально-политической системы и в умело реализуемой внешней политике. Напомним, что речь идет о нематериальной стороне, то есть оценивается в качестве конкурентного преимущества не реальное состояние экономики в числовых показателях, а именно потенциал ее роста через наличие факторов развития. Теория «роста без развития» наиболее наглядно иллюстрирует, как на фоне физического роста числовых показателей экономики реальный потенциал может стагнировать или сокращаться.
Основными акторами ССП в бизнесе являются: акционеры, служащие компании и потребители. В реализации же системы Сбалансированных политических показателей фигурируют высшее политическое руководство (элиты), государственные служащие и общество. Безусловно, основные группы акторов даны в укрупненном виде, при детализации они соответственно сегментируются на дополнительные подгруппы.
Акторы определяют сбалансированную систему целей. В частном бизнесе в качестве такой мета-цели часто называется увеличение стоимости собственного капитала (цель перспективы Финансы). В качестве мета-целей сферы общественного управления можно назвать повышение удовлетворенности заинтересованных групп (например, граждан) или качественное выполнение государственных услуг. Такая постановка вопроса позволяет избежать нежелательного в этой сфере крена в сторону финансов. Ни в сфере частного бизнеса, ни в сфере общественного управления не удается построить систему целей, в которой не было бы противоречий между отдельными целями.
Цели, которые могут противоречить друг другу (например, стратегия роста и стратегия снижения издержек), в частном бизнесе согласуются путем установления целевых значений для показателей, характеризующих эти цели. В политической сфере это сделать сложнее, поскольку в группе заинтересованных лиц (клиенты, граждане, вышестоящие организации) зачастую нет единства в целях. Любой гражданин, будучи больным, желает иметь оптимальную систему здравоохранения, но как клиент страховой компании этот же гражданин хотел бы иметь недорогую систему здравоохранения. Политик должен в большей мере, чем администратор общественной организации, управлять этими конфликтами и сглаживать возникающие противоречия.
Логика сбалансированной системы показателей направлена на разработку сбалансированной (учитывающей противоречия) системы целей. Сам по себе процесс построения этой системы позволяет выявить возможные противоречия и конфликты, обсудить их и учесть в системе целей.
Наиболее характерно сбалансированную систему целей иллюстрирует Концепция устойчивого развития в виде классического трилистника трех измерений (см.рис.1).

Однако, эти три корзины больше характерны для характеристик развития общества в целом. В данной работе речь идет о политических показателях. Поэтому следующим вопросом исследования будет являться: а существует ли необходимость выделения политического поля в стране в отдельное поле управления с собственными показателями при том, что вопросы политики неразрывно связаны со всеми измерениями национального развития?
В книге П.Химманена и М.Кастелса «Информационное общество и государство благосостояния. Финская модель» можно найти интересное исследование самых известных в мире наций, реализовавших проекты инновационного рывка. Основные группы показателей этих обществ составлены следующим образом:
- Технологии – инфраструктура, производство, знания;
- Экономика – национальная экономика, бизнес, инновационность;
- Благосостояние – образование, здравоохранение, благосостояние (коэффициент Джини);
- Ценности – свобода СМИ, степень равноправия полов, гражданское общество, глобальность.
При этом выделяется три разные технологически и экономически динамичные модели информационного общества:
- Модель Силиконовой долины (США) – открытое информационное общество, движимое силами рынка;
- Сингапурская модель – авторитарное информационное общество и
- Финская модель – открытое информационное общество благосостояния.
Книга писалась в 2002 году до глобального кризиса, которая явила миру новый феномен – рост информационного потенциала Китая – страны, в которой показатели открытости общества, всеобщего благосостояния и свободы рынка далеки от понятия развитого либерализма. В то же время кибервойны с участием Китая стали объективной реальностью и различные отрасли страны демонстрируют высокую динамику развития.
Примеры Китая и Сингапура свидетельствует о том, что политический либерализм не является безусловным фактором успеха в построении инновационного общества. Но самое главное – основные модели существенно отличаются между собой именно политической составляющей, раскрываемой в группе показателей «ценности». Ведь по сути политика представляет собой конкуренцию концепций в категории ценностей.
Казахстанские реалии демонстрируют то, что лозунг «вначале экономика, потом политика» привел к тому, что доминирующей ценностной категорией политической борьбы стала власть как контроль над экономическими богатствами страны. Это естественно, если понимать политику в виде сублимации экономики, но неестественно, когда в политике практически не участвуют остальные ценности социума. Более того, ударам повергаются такие наработанные годами устои общества как межэтническое и межконфессиональное согласие. Работа с базовыми ценностями переместилась в сферу пропаганды и PR, являющимися не политикой, а лишь ее искаженной проекцией.
4.
Перейдем непосредственно к детализации ССПП, необходимой для определения базовых теоретических принципов и реализации на практике.
Первым этапом является формулирование миссий и стратегий. В Казахстане этот вопрос решен на фундаментальном уровне, поскольку представляет собой комплекс Стратегических планов, начиная со стратегии «Казахстан-2030» и включая ведомственные стратегии и концепции на конкретные периоды.
Однако с точки зрения управляемости достижением целей исполнение стратегий содержит в себе определенный парадокс, заключающийся в чрезвычайно большом количестве детализированной информации и показателей. В бизнес-теории ССП считается, что избыток данных – это квалифицированная проблема, значительно усложняющая процесс оценки эффективности результатов. В главной степени потому, что профессиональная детализация усложняет понимание баланса показателей и подвержена риску интерпретаций.
Фактически правительство и ведомства являются одновременно разработчиками и контролерами реализации стратегий, при этом неся косвенную ответственность за общеполитический фон реализации стратегических планов, то есть, собственно, за баланс политических показателей в обществе.
Такое же огромное количество показателей содержится и в Концепции устойчивого развития Казахстана с тем отличием, что она выдержана в рамках ценностей Комиссии ООН по окружающей среде и развитию и имеет ярко выраженную экологическую доминанту.
Для выработки системы показателей для политической сферы осуществляется каскадирование показателей или создается т.н. «дерево показателей». В холдинговом управлении через СПП считается, что один человек (даже крупный руководитель) может эффективно работать и оценивать не более 20-ти показателей. С этим связано то, что в финской модели стратегического планирования построения информационного общества содержится лишь 24 ключевых показателя (сгруппированных как показано выше на стр.10). Существует также укрупнение показателей через сводные индексы.
Таким образом, на вершину «каскада политических показателей» возводится ряд формулировок, способных отразить политические интересы на уровне парадигм. Данный подход требует возврата к целеполаганию для того, чтобы привести цели к формулировкам, принятым в современных научных теориях целеполагания.
Прежде всего, в моделировании целеполагания необходимо определить основные поля интересов основных акторов. Как уже указывалось выше, в ССПП применяется трехсегментная стратификация общества, указанная на рис. 2.
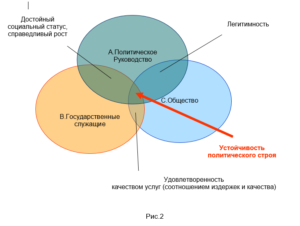
Безусловно, с точки зрения социологии или политологии такое укрупненное видение не является классическим. Однако, если исходить из категории интересов, то эти три группы составлены по принципу отношения к государственным услугам.
Политическое руководство является организатором предоставления государственных услуг. Государственные служащие непосредственно предоставляют эти услуги. А общество является их потребителем.
Безусловно, стратификация является укрупненной. Поскольку не учитывает такие группы как предприниматели, бюджетники или средний класс. Тем не менее, именно через данный срез избегается чрезмерная размытость, вызванная конфликтом целей. Считается, что Система сбалансированных показателей с трудом применяется в политике именно потому, что между различными стратами общества этот конфликт существует. Но предлагаемый срез через госуслуги является наиболее консенсусным с точки зрения целеполагания, поскольку даже вопрос стоимости издержек на услуги может регулироваться консенсусом.
С точки зрения базового целеполагания такая трехсегментная схема представляет собой отражение основных интересов акторов, может стать отражением основных результатов их взаимодействия, а также ожиданий акторов друг от друга – базовый трилистник устойчивости политического строя.
Дополнением к этой схеме может стать только фактор социальной динамики – то есть справедливого роста социального статуса. Однако этот фактор характерен для групп В и С.
Трехсегментная схема формулирует понятие «целей», в то время как их детальная расшифровка, согласно теории целеполагания, представляет собой «концепции». К примеру «равенство перед законом» означает удовлетворенность общества услугами судопроизводства («что происходит?»), а вот понятие «справедливый суд» – это уже концептуальная характеристика («почему так происходит?»).
Данная схема иллюстрирует существующие противоречия в целеполагании Стратегических планов и показателей с их политическим звучанием. Например, Министерство охраны окружающей среды свою миссию сформулировало следующим образом: «Формирование и реализация политики в области устойчивого развития и охраны окружающей среды, а также системы экологического регулирования и контроля на всей территории страны и в трансграничном аспекте». Это чисто профессиональная трактовка, не отвечающая требованиям политического звучания. Или видение Министерства здравоохранения РК: «Модернизированный в соответствии с передовой международной практикой государственный орган, осуществляющий государственное регулирование и межотраслевую координацию в сфере охраны здоровья граждан и управления отраслью здравоохранения».
Более яркий пример: основными показателями эффективности деятельности финансовой полиции (Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью) являются количество возбужденных уголовных дел и объем средств, возвращенных государству. В то время как с точки зрения базового целеполагания общества речь идет о снижении незаконных издержек на государственные услуги, в которых коррупция рассматривается не как правовой концепт, а как нарушение корневых политических интересов и общественного договора по легитимации политической власти.
В качестве примера большего соответствия целеполагания ведомства параметрам политической устойчивости можно привести опыт Великобритании. В Соединенном Королевстве создание ведомственных стратегических планов гораздо ближе к базовым интересам общества. Там каждое центральное министерство и ведомство Великобритании составляет Соглашение о государственных услугах (Public Service Agreement), в котором указываются цели и задачи деятельности органа, показатели результативности, а также показатели конечных результатов его деятельности. Также в Соглашениях о государственных услугах излагаются требования к качеству оказываемых государством услуг населению.
Основное значение Соглашения о государственных услугах состоит в том, что оно содержит ключевые показатели деятельности государственного органа, позволяющие судить о степени его результативности. Каждое Соглашение, как правило, включает одну стратегическую цель и четыре-шесть задач, конкретизирующих направления деятельности государственных органов Великобритании и обеспечивающих достижение поставленной цели. В Соглашении также представлена система показателей конечных общественно значимых и непосредственных (прямых) результатов.
Главным недостатком применения ССП в политической сфере считается невозможность оценить некоторые нематериальные активы и показатели в числовом выражении. Однако этот недостаток компенсируется проведением регулярных социологических опросов по утвержденной методике.
К примеру, основные направления строительства «общества благоденствия» в Финляндии в отношении населения к государственным услугам были определены путем опроса и закреплены в качестве приоритетных (см.рис 3).
Примечательно следующее: финские исследователи отмечают, что эффективно пройти рецессию конца 90-х годов помогла именно «социальная приемлемость» предложенных обществу приоритетов и исполненных государством обещаний.
В Казахстане необходимо провести собственные замеры общественного мнения по определению приоритетных ожиданий общества от политического руководства. Прежние замеры, как правило, демонстрировали, что первые два места регулярно занимали вопросы «справедливого суда» и «борьбы с коррупцией», что в интерпретации данного доклада звучит как «равенство перед законом» и «снижение издержек на госуслуги».
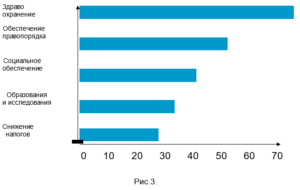
Замеры общественного мнения вкупе с экспертными опросами и ведомственным аудитом способны представить действие показателей не в статике, а в текущей динамике, а также могут служить формой публичной отчетности. К примеру, на рис. 4 представлена стандартная таблица оценок деятельности полиции, складывающихся из общественных замеров, статистических данных, данных исследований Инспекции Констеблей Ее Величества, а также по результатам Аудиторской комиссии.
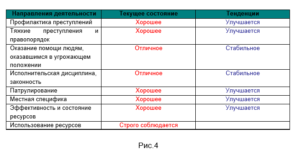
Опыт зарубежных стран свидетельствует о необходимости разработки в Казахстане собственных методик экспертных и массовых исследований, которые позволят выработать собственные подходы к оценке социального взаимодействия основных акторов политического поля и выработать соответствующий лист показателей.
5.
В основе управления через ССП лежит квалифицированный сбор и интерпретация информации по всей вертикали и по всем сегментам управления. При этом политика настраивания каналов информации и информационных потоков должна учитывать: а. как указывалось выше – избыток данных искажает оценку результативности, с одной стороны; в. Собираемые и обрабатываемые данные часто обобщаются до такой степени, что теряют смысл, с другой стороны.
Реализации данной задачи служит проект создания в Казахстане Единой сети ситуационных центров, объединенных под эгидой Ситуационного центра Президента РК.
Создание Единой сети позволит решить проблему правильного баланса накопления и использования количественной и интерпретированной информации в Администрации.
Автоматизация процесса сбора и анализа достижения целей позволит более качественно контролировать информационные потоки и уменьшить удельный вес неконтролируемого потока информации.
Объединение информации позволяет эффективно проводить сведение многочисленных параметров развития общества в единую систему оценки успешной реализации принципа политической целесообразности в выстраивании взаимоотношений с обществом.
* * * * *
В заключении необходимо обозначить основные направления запуска Системы сбалансированных политических показателей ССПП в практическое русло:
- Экспертные исследования существующих отраслевых показателей, направленные на кристаллизацию их политического звучания в «политическом трилистнике»;
- Массовые опросы, позволяющие определить основные ожидания общества от эффективности деятельности государства. Опросы позволят отделить вопросы ценностей от вопросов политического манипулирования со стороны оппонентов власти и определить перспективные «зоны консенсуса» между тремя акторами «политического трилистника»;
- Провести теоретический поиск с целью построения «дерева политических показателей» по отраслевым вертикалям исполнительной власти;
- Определить «зону ответственности» провластных общественно-политических институтов, в частности, партии «Нур Отан», их место в проведении политики политической целесообразности и создании общественного консенсуса;
- Провести отдельные исследования в специфическом сегменте «трилистника» – среди государственных служащих на предмет определения их собственной системы ценностей и показателей возможной положительной динамики ее развития;
- Сформировать на основе исследований базовые методики, которые будут использованы в дальнейшем.
(2010г.)
К вопросу о создании партии правого толка в РК (2010г.)
| Постановка проблемы: | Возможно ли, или целесообразно ли в Казахстане создание новой партии «правого толка»?
|
| Развитие проблемы: | Если целесообразность существует, какова оптимальная сценаристика создания правой партии? Если нет, то какими могут быть действия по моделированию политического поля с точки зрения «правой» идеи в целом?
|
1. «Правые» и «левые» с точки зрения современной теории.
«Мне нравится иметь дело с правыми,
они говорят то, что действительно думают,
не так как делают левые,
которые говорят одно, а подразумевают другое».
Мао Цзе Дун
Вопрос о появлении, кристаллизации или структурировании «правых» сил в Казахстане является очень важным с точки зрения генезиса молодого государства и его политической системы. Сама постановка вопроса о консервативном традиционализме, о понимании на иррациональном уровне необходимости сохранять определенные социально-политические ценности, говорит о том, что в обществе традиционализм сформировался в достаточной степени. А это может стать свидетельством достижения определенной стадии ценностного развития казахстанского общества.
В принципе, исследование вопроса, есть ли возможность и необходимость создания в стране партии правого толка и должно содержать в себе ответ на вопрос о достаточном формировании «правой» идеи в стране.
Однако для определения контуров «правой» идеи для Казахстана необходимо обладать представлениями о теоретических коллизиях вокруг этого понятия, генезисе его возникновения и трансформаций.
Отдельные эксперты склонны считать, что противостояние «правых», как сторонников Традиции и «левых», как сторонников Модерна восходит к средневековью, когда партии находились на стадии аристократических котерий (группировок), а возможно и к партиям Древнего Рима. Однако в данной работе внимание будет уделено крыльям политического спектра, формировавшимся в буржуазных и посткапиталистических обществах.
Разделение политических крыльев на «правых и левых» возникло на заре существования буржуазной демократии, во времена Великой Французской революции, и первоначально характеризовало разделение на сторонников и противников «абсолютной монархии». В Генеральных штатах, а после и в Учредительном собрании, первые сидели по правую руку от председателя, вторые – по левую. Лагерь роялистов возглавляли – аббат Мери и талантливый оратор драгунский капитан Казалез. Им противостояли все представители от «третьего сословия», а также либеральные дворяне и священники. К левым относил себя даже Мирабо, вообще бывший противником демократии и видевший свой идеал в цензовой парламентской монархии.
Позднее, в Конвенте роялистов уже не существовало, правое крыло было представлено жирондистами, а левое – монтаньярами, из которых впоследствии вышла кровавая якобинская диктатура.
Но все же, классические правые, организованные в современные политически партии, начали создаваться в виде реакции на либерализм США и итоги Промышленной революции, прошедших под принципом laissez-fair (невмешательства государства в экономику).
В этот период, в середине XIX века, сторонники Старого порядка оформились в Старом же Свете в качестве активной доктрины и реакции на радикальный американский либерализм. Такой доктриной стал французский этатизм, а лидерами новых европейских консерваторов стали Бисмарк в Германии и Дизраели в Британии. В сущности, в этот период произошло складывание базового понимания «правой» идеи, которая со временем развивалась, трансформировалась и приобретала новые трактовки, в том числе и парадоксальные.
Возможно, наиболее рельефное видение правых наблюдается в монархиях, в том числе и конституционных. В этом ракурсе интересна кристаллизация правой мысли в России начала ХХ века. В русском понимании «правая» идея максимально сакрализует понятия истории, монархии, православия и традиции. Это приводит к тому, что правые в России исторически обладают крайней степенью иррационального восприятия традиционализма. Поэтому с начала ХХ века в правом крыле российской политики могут оказываться как консервативные либералы, так и монархисты, православные фундаменталисты, вплоть до черносотенцев. Символизм отношения «правого» и «левого» в политической культуре России настолько высок, что его хорошо иллюстрирует такой факт, что в царской армии марш начинали с правой ноги, в то время как большевики намеренно изменили команду на «левой!».
Сегодня существует два уровня понимания «правой идеи».
Первый подход считается ситуативным, условным, и в большей степени формальным, при котором «правыми» мы называем всех сторонников существующего политического режима, а «левыми» всех его противников. Такой подход крайне уязвим и приводит к путанице, поскольку тогда в СССР под определение «правых» подпадают коммунисты, а в Иране шиитские аятоллы, строящие свои доктрины на основе клерикального социализма.
Вторым подходом считается «академическая» система классификации «правых» и «левых». В политике «правые» – это сторонники надындивидуальных ценностей, иррациональной ценности традиций, сторонники консервации существующей иерархии; а «левые» – это сторонники индивидуализма, доктрины «прав человека», реформ общества, направленных на отдельный индивидуум, который является абсолютной ценностью.
Такой подход также не является полноценным отражением современного различия «правых и «левых», поскольку упирается во вполне эмпирическое противоречие: протестантский капиталистический консерватизм, ориентированный на прагматизм личного успеха, вполне индивидуален, в то время как социалистические режимы повсеместно построены на сакрализации доктрин, откровенном коллективизме в ущерб правам человека.
Этот теоретический сдвиг во многом связан с тем, что ко второй половине ХХ века практически полностью изменились представления элит различных стран о том, что надо бы законсервировать и что не трогать. Так возникли неоконсерваторы США, резко отреагировавшие на кейнсианские реформы Джимми Картера, и доминировавшие в США в периоды «рейганомики» и обоих Бушей.
Но опять же, парадоксальным является то, что классические консерваторы в США считают неоконов не то что не «правыми» и не консерваторами, а «троцкистами» или «неоякобинцами», поскольку главная внешнеполитическая доктрина неоконов – это экспансия демократии американского образца на весь мир в качестве универсальной модели. В то время как классические «правые» все же против универсальных моделей и стоят на позициях уникального почвенничества.
В упрощенном понимании неоконсерватизм в доктринальном плане – это воинствующий антилиберализм, причем направленный конкретно против либерализма 60-х годов – эпохи хиппи и сексуальной революции, – и конкретно против ослабления роли государства. Крушение социалистического лагеря и победный марш капитализма по миру, продолжавшийся до кризиса, который начался на излете 2006 года, опять смешали представления о «правой» и «левой» идеях в мире. Во-первых, развал СССР создал благоприятную почву для неоконов – с тех пор династия Бушей фактически вела перманентные военные действия. Во-вторых, как указывалось выше, коммунистические элиты целого ряда стран резко «поправели» в теоретических оценках, поскольку символизировали собой консервацию коммунистических порядков СССР.
Так или иначе, как бы не различались трактовки и восприятие «правой» идеи в различные периоды истории и в различных политических системах, можно утверждать следующее:
Сущность «правой» идеи заключается в том, что та или иная нация накапливает определенный потенциал ценностей, которые, по мнению определенного круга, составляют сущность исторической и морально-этической уникальности общества. Данные ценности приобретают черты безусловной, сакральной ценности, и этот круг людей создает партии, группы и течения для консервации общественных отношений в таком виде, чтобы фундаментальные ценности не пострадали. В частности, от рук чересчур энергичных либералов и левых реформаторов различного толка.
Сегодня можно говорить о том, что Независимый Казахстан сформировал такой свод ценностей, и как следствие этого, в обществе возникла востребованность «правой идеи». Вопрос лишь в готовности общества, власти и ее политических институтов сформулировать эту идею и начать изучение возможности и своевременности ее внедрения.
2. Ситуация в Казахстане.
Бывший спичрайтер Буша и пропагандист неоконов Дэвид Фрам (их совместная с Ричардом Перлом книга «Конец злу» является меморандумом крайнего неоконсерватизма) утверждал: «Неоконсерватизм — это не вопрос идеологии, это вопрос биографии. Этот термин имеет отношение к определенному поколению, родившемуся между 1920−м и 1950 годами…. Новые иммигранты по своим взглядам были более левыми, чем традиционные американские левые и демократы. Беспорядки в США в 1960−1970−х годах шокировали их до такой степени, что они пересмотрели свои политические взгляды. Это был коренной перелом. Нет, никакой новой идеологии не родилось — сформировался неоконсервативный типаж целого поколения» (выделено авт.).
Эта цитата приведена полностью, поскольку должна отразить отношение разработчиков к теории и истории «правой» идеи применительно к Казахстану. В истории одного-двух поколений казахстанцев наблюдалось, по крайней мере, два раза изменение политических расклада нашего общества на «правое» и «левое» крылья, как с упрощенной точки зрения, так и с академической. В первый раз консервативное крыло было представлено апологетами уходящего коммунистического режима, сегодня оно представлено действующей властью.
В Казахстане мы имеем дело с собственным типажом целого поколения, со своими представлениями о политических крыльях, со своим эмпирическим пониманием того, что представляет собой консерватизм, а что – либерализм или откровенное левачество.
С одной стороны, это говорит о том, что формирование собственного консервативизма должно пройти исходя исключительно из реалий казахстанского самосознания. С другой, необходимо избежать возникновения бестолкового и внесистемного гибрида, который не может выполнить собственные функции и задачи, и неудачливые менеджеры начнут это списывать на некую «казахстанскую специфику».
Во всем можно искать оригинальность себя, но, в конце концов, должно же быть чувство политического стиля.
В Казахстане отсутствие политического стиля в последнее время стало доминирующим трендом. К примеру, до сих пор наиболее типичной ошибкой считается причисление либералов к «правым» – скорее это некая калька с российского Союза Правых Сил, который с академическим «правым» крылом не имеет ничего общего. Скорее такое название принято российскими квази-правыми с целью манипулирования общественным сознанием.
В то же время нельзя упускать из внимания то, что основой имиджа Президента Н.Назарбаева всегда был образ реформатора, подразумевающий изменение общества на основе идей модернизма. В этом ключе принятие «правой» доктрины правящим политическим строем означает принципиально новый этап развития казахстанского политического сознания, к которому нельзя подходить чисто с административно-организационной точки зрения.
Уйти от ситуативной политики и начать строительство мировоззренческих основ консервативизма, как основы «правого» движения – это и есть показатель зрелости и готовности режима создать собственных правых.
Одной из сопутствующих задач является «наведение порядка» в сознании общества по отношению к сегодняшним либералам, которые не просто присвоили понятие «правых», но, таким образом, лишили общества ценности понимания «правой» идеи в целом.
Если рассуждать с точки зрения основной политической цели, то главным инструментом власти должна была быть НДП «Нур Отан», главной задачей которой является, по сути, сохранение правящей власти, существующих общественно-политических отношений, сложившегося экономического порядка. В то же время позиционирование партии скорее социал-демократическое, которое подразумевает продолжение реформ по перераспределению ресурсов в обществе на более массовой основе, нежели это происходит сегодня.
Как инструмент, НДП «Нур Отан» «болеет» проведением реактивной политики и ментально-этическими импровизациями отдельных партийцев, ничего общего не имеющими с политической платформой правящей партии. В состоянии «единственности во власти» партия очевидно лишена «единства выражения» партийной платформы на публике. В большей степени это объясняется тем, что не она сама ее придумывала, а занимается лишь публичной поддержкой и продвижением президентских стратегических планов.
В сущности, в стране имеется два отдельных политических поля, функционирующих самостоятельно – это поле партии власти и поле остальных партий-акторов. Эти поля практически не пересекаются в каких-либо значимых политических ситуациях. Часто «конструктивистов» лишь привлекают для реализации победного антуража «Нур Отану».
Это привело к тому, что у разных полей разные политические стимулы:
- для нуротановцев характерны четкие карьерные устремления индивидуумов, желание увеличить свой ресурс власти за счет расширения участия в «прямом администрировании», желание перейти в более зажиточную группу населения;
- для оппозиции характерна борьба за «оседлание» групп протестников, привычных и возникших в результате глобального кризиса и приверженность «протестному эволюционизму» – идее, что с каждым днем в открытое поле протеста будет выходить все больше и больше людей вплоть до накопления критической массы. Эту критическую массу можно использовать как средство шантажа и как инструмент отстранения от власти правящей группы. Цель одна – получение максимального контроля над государством и его ресурсами.
Необходимо проанализировать ситуацию, возникшую в НПО «Нур Отан» с точки зрения того, в состоянии ли она потянуть «правую» идею, как мировоззрение казахстанского консервативизма.
Если использовать классификацию общепризнанного теоретика Мориса Дюверже, при существующих принципах организации Нур Отан откровенно не соответствует своим функциям и задачам. Как потенциально «правая» партия, главной целью которой является сохранение существующих общественных отношений, она не является политическим клубом или кадровой партией, что наиболее типично для консервативной организации.
«По существу, кадровые партии – это партии активистов или функционеров с малым числом рядовых членов, аморфной организованной структурой. Вследствие чего само вступление в них имеет смысл своеобразного глубоко индивидуального акта, обусловленного способностями или особым положением человека, его строго детерминированными личностными качествами. Это акт, доступный избранным; он основан на жестком и закрытом внутреннем отборе» (М.Дюверже, Политические партии).
Хотя де-факто она финансируется спонсорами и меценатами, Нур Отан все равно представляет собой другой тип – массовой партии, поскольку ориентирована на многочисленность рядов и существование за счет взносов. По крайней мере, публично.
Массовые партии, согласно классификации Дюверже, характеризуются многочисленностью состава, более тесной и постоянной связью своих членов, централизованной иерархизированной организационной структурой. Типичной в этом отношении является Французская социалистическая партия.
По Дюверже существует также три типа массовых партий: социалистические, коммунистические и фашистские. Как ни странно, черты всех трех типов мы находим в Нур Отане. (В данном случае речь идет о структурировании деятельности, функциональном соответствии, а не идеологическом наполнении партии).
Первичными организациями социалистических партий являются секции по месту жительства в несколько сотен человек. Они объединяются в единую организацию по более высокому административному делению (города, области, префектуры). Партия превращается в своеобразный государственный аппарат с разделением властей, где законодательная власть принадлежит конгрессу (или национальному совету), исполнительная – исполкому (или национальному секретариату), а юридическую власть проводит контрольная комиссия.
Коммунистические партии (подразумеваются компартии различных стран, а не КПСС) изначально ориентировались на создание своих первичных организаций по месту работы, поскольку основывались на идее диктатуры пролетариата. Они более однородны и ограничены по размеру. Это позволяет им контролировать свой социальный состав, регулировать численность и устанавливать жёсткую партийную дисциплину. Организационным принципом партий является «демократический централизм». На практике иерархическая и централизованная организация существенно ограничивает демократию. Выборы руководителя превращаются в формальность, поскольку их подбор, как и принятие решений, осуществляет централизованное руководство партий.
Существует в Нур Отане и, к сожалению, черты фашистского типа, поскольку на местах партии опираются на административную мощь силовых органов и организованных ими отдельных групп под «временные» задачи, которые самостоятельно местные партийные ячейки выполнить не в состоянии.
Авторитетные политологи Ла Паломбар, Дж.Сартори, не отвергая схему Дюверже, предложили дополнить классификацию выделив еще один тип партий – «партии избирателей». Эти партии, не являясь массовыми, ориентировались на объединение максимального количества избирателей самой различной социальной принадлежности вокруг своей программы для решения основных вопросов текущего момента. Позже такие партии получили название «универсальных». В последние годы этот тип партий стал наиболее динамично развивающимся в Европе и в Америке. В значительной степени это обусловлено ослаблением идеологических разногласий, ростом интереса граждан к универсальным, общечеловеческим ценностям. Многие политологи считают, что универсальным партиям принадлежит будущее в постиндустриальном обществе.
Однако на сегодняшний момент главной проблемой утери Нур Отаном «универсализма» является утеря стратификационных стратегий, лежавших в основе практически всех выборных кампаний с 1998 по 2005-й годы. К сожалению, это вопрос не случайного изменения принципов управления, а отражение реалий политической борьбы в Казахстане.
Эти реалии свидетельствуют о том, что линия политического конфликта «за и против власти» представляет собой лишь внешний фасад противостояния. Основные социально-политические конфликты и мотивации поведения в них содержатся в беспрецедентном расколе правящей элиты и в том, что борьба между т.н. кланами или ФПГ имеет тотальный характер по всей вертикали общества и охватывает практически все страты. Вопросом этой борьбы для союзов и временных объединений элиты является не менее чем получение полной власти в стране при максимальном устранении конкурентов.
Сложность такой ситуации заключается еще и в том, что даже внешние вполне очевидные «враги режима», находящиеся за рубежом (такие как Алиев или Аблязов), отнюдь не оторваны от процессов внутриэлитного объединения и разъединения, а напротив, представляют собой лакомый боевой инструмент в межклановых баталиях.
Итогом того, что межклановые конфликты проходят по всей вертикали общества, является практически полное пренебрежение в партии прагматической классификацией общества на страты, что привело к утере из ядерного электората власти некоторых классических звеньев.
Здесь, например, можно отметить утерю влияния власти в предпринимательском слое казахстанского общества. Причем речь идет не только о малом и среднем предпринимателе. Речь идет о сквозной прослойке, от самозанятых до частных промышленников, чье поведение определяется температурой взаимоотношений с государством. Иначе говоря, о тех, кто представляет собой бизнес-климат страны.
Важно отметить, что взаимоотношения власти и предпринимателей являются одним из ключевых направлений политического взаимодействия, через призму которого определяется принадлежность партии к «правому» или «левому» крылу идеологического спектра.
Другой причиной утери стратификационного видения общества является необоснованная претензия «Нур Отан» на «мифическую общенародность», которая должна была четко восприниматься как пропагандистский аспект, а не стратегическое видение status quo. Результатом того, что политологи «Нур Отана» оказались в изолированном поле неконкурентности, для них исчезла необходимость скрупулезного изучения интересов различных слоев и социальных групп общества, что, собственно, является основой современной политологии и социологии.
Третьей причиной утери компетенций в политологии является усиление роли государства в условиях глобального кризиса, которое «по умолчанию» работники властных политических институтов перевели в игнорирование интересов остальных социальных групп, по отношению к которым началась неприкрытая реактивность – есть события, есть реакция. Это привело к тому, что различные социальные группы быстро увидели, что предпочтительнее сразу переходить к стадии обострения конфликта – пикетам, демонстрациям, гневным письмам и прочее, – нежели ожидать какого-либо конструктивного диалога.
Базовый ориентир, взятый в «Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2010 года» (Утвержден Указом Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года N 735), достаточно однозначен – это приоритеты развития крупных ФПГ и ТНК, за счет которых должен был в полной мере осуществиться конкурентный прорыв страны. Фактически с 2001 года был взят ориентир на государственный капитализм, хотя глобального кризиса еще тогда и не было.
Это четвертная причина, почему предпринимательская страта утрачена – Стратегия 2010 года фактически разбила бизнес страны на два лагеря, привилегированных не по принципу дружбы с сильными мира сего, а по принципу профиля деятельности и месту в государственном капитализме. В Стратегии принцип взаимоотношений выражен таким образом: «…наша стратегия заключается в создании системообразующих компаний с участием государства во всех ключевых секторах экономики. Системообразующие компании должны составить базу казахстанской экономики. Вокруг этих компаний должны образовываться и по их заказам работать мелкие и средние предприятия» (Раздел 4. Роль Государства в экономике. Выделено авт.). Далее говорится о том, что такому распределению приоритетов будут способствовать финансовая система и специально создаваемые государственные институты.
В результате самостоятельная (или независимая) предпринимательская среда фундаментально выпала из системы социально-политического моделирования в качестве отдельного и самого показательного сегмента.
Отнюдь не принижая ни роли идей, ни значения социально-классовой детерминации, Дюверже формулирует свое ключевое положение таким образом: сущность современных политических партий полнее и глубже всего раскрывается в их организации; партия есть общность на базе определенной организационной структуры; характер этих базовых структурных единиц и способ их интеграции в единое целое самым существенным образом влияет на ее социально-классовый состав и доктринальное единство; эффективность деятельности партии и даже сами принципы и методы этой деятельности непосредственнее всего определяются самой устойчивой характеристикой партии – ее базовой организационной структурой.
Как видно из приведенной цитаты, один из самых существенных инструментов консервации общественных отношений в обществе – правящая партия Нур Отан – весьма отдаленно соответствует своей главной политической функции, которая определилась для власти в первой декаде ХХI века в Казахстане.
3. Содержание «правой идеи» в Казахстане.
В данном разделе необходимо дать разъяснение, почему состояние главного политического инструмента, партии, рассматривалось ранее собственно содержания самой идеи.
Дело в том, что власть уже сформулировала две стержневые идеи, которые в совокупности представляют собой эскиз казахстанского неоконсерватизма. Это доктрина Национального лидера и Доктрина национального единства, которые сегодня находятся в стадии «заморозки».
Почему эти идеи встретили повсеместное, подчас нерешительное, но все же сопротивление общества к тому, чтобы стать основой консервативной идеологии? Неужели межэтнический мир, формировавший суть взаимоотношений казахов с другими этносами, проживающими вначале в автономии, потом в социалистической республике и, наконец в независимом Казахстане, не прошел так легко в разряд безусловных и сакральных ценностей? Почему стабильность и преемственность власти не стала объективной и безусловной ценностью для людей, постоянно голосовавших за ее несменяемость? Этому существуют следующие объяснения.
Одной из глубинных трактовок является то, что, несмотря на институциональную безальтернативность власти, такие идеи должны защищаться в абсолютно конкурентной среде. В первую очередь потому, что они должны становиться их (народа) идеями, а не формулировками, спускаемыми властью сверху для безаппеляционного принятия.
А в существующих условиях у власти не оказалось в руках эффективного популяризующего инструмента для превращения идеи «из своей в их». Система политических институтов, административная мощь, доминирование в информационном пространстве не сдали экзамен на свою эффективность. Теперь стало ясно, что высокая конкурентность лидера столкнулась с абсолютной неконкурентностью партии и официальных пропагандистов.
Не было осуществлено следующее: не производились исследования общественного мнения по данным вопросам; не осуществлялось систематическое изучение вопроса «при каких обстоятельствах эти доктрины могли бы быть приняты, как безусловная ценность?». Упор открыто делался не на интеллектуальное преподнесение идей обществу, а на силовое продавливание под эгидой политической ответственности одного человека – Президента.
Отсутствие конкурентности формировалось не один год – это цепь не только событий в политике, но и последовательность определенных политических решений не фундаментального характера.
Что подразумевается под конкурентной средой? Какие существуют наиболее приемлемые модели этой среды для Казахстана? Не углубляясь во все многообразие партийных систем мира, перейдем сразу к той, модель которой всегда привлекала казахстанцев своей строгостью и организованностью. Однако в процессе ее реализации постоянно теряется, под давлением обстоятельств, последовательность и настойчивость.
К примеру, известно, что многие политологи признают значительные преимущества двухпартийной англосаксконской системы. Если говорить о моделировании, то в Казахстане такая модель могла реализоваться на основе двух партий:
- неоконсервативного правого толка, кадрового типа (политического клуба), защищающей интересы крупной буржуазии, возникшей в итоге первоначального накопления капитала, иными словами, защищающей элиты, созданные Президентом и;
- массовой партии социал-демократического толка, обладающей широкой представленностью во власти и защищающей административную элиту в самом широком понимании, больше как среду среднего класса.
Вопрос в том, что обе социальные группы, так или иначе, созданы Президентом, поэтому основываются на единой ценностной платформе сохранения политического строя.
Дюверже считает, что основой двухпартийности являются мажоритарные, однотуровые выборы в парламент, ликвидация которых (мажоритарных выборов) автоматически ликвидирует возможность создания двухпартийного баланса. По его мнению, многопартийность часто ведет вообще к отсутствию партийной системы.
В Казахстане в результате политической реформы, по сути, была перекрыта возможность для последующего установления двухпартийности.
Другим фактором, в результате которого подрывается создание парламентаризма, является выбрасывание оппозиции из легитимного парламентского поля, поскольку автоматически переводит их в поле классических «левых», вынужденных выстраивать свою деятельность в поле чистого противостояния политическому строю. В таком случае происходит утеря потенциальных оппонентов, стремящихся к легитимности, а на их место приходят движения и не рассчитывающие на легитимное поле, то есть радикальных «леваков».
Такая ситуация сложилась в 2007-м году на выборах в Мажилис, когда оппозиционные партии стремились легитимизироваться, но были запрограммированы на иное развитие.
Все эти процессы были описаны экспертами еще 1951 году, но современные политологи сегодня подтверждают неизменность данных принципов развития политического поля. На текущий момент большинство «организаторов политики» вместо того, чтобы тратить ресурсы и усилия на развитие межпартийной конкуренции, развернули свои усилия на межэлитные войны.
В поствыборной пропаганде создавшаяся однопартийная модель всячески продвигалась как нормальная, с ссылками на бессменность правления УМНО в Малайзии и либерально-демократической партии в Японии. Однако УМНО девальвировала своего национального лидера – М.Махатхира, а ЛДП Японии сегодня уже не правящая партия.
Таким образом, к сожалению, мы наблюдаем в Казахстане доминирование форм над стратегией содержания. Существует разрыв между реальной востребованностью со стороны власти, прежде всего Президента, в формировании стабильной системы реализации политических интересов руководства страны с одной стороны; и массой институтов и организаций, наделенных административными функциями и влиянием, при этом не способных и не готовых к работе в конкурентной среде, а поэтому всячески обосновывающих необходимость существования неконкурентной среды, с другой стороны.
К сожалению, при таких обстоятельствах можно констатировать, что «правой идеи» как ценностного философского комплекса взглядов, стоящих на защите существующего порядка, как с теоретичесокой, так и организационной точки зрения – в Казахстане нет.
4. Пути институционализации «правой идеи» в Казахстане.
Несмотря на ситуативные обстоятельства актуальность институционализации «правой идеи» в Казахстане не понизилась, а напротив – приобрела более отчетливые очертания. В то же время при реализации институционального подхода требуется определенная решительность и трезвая оценка существующих инструментов политики.
Вопросы должны исходить из понятия целесообразности и простоты констатации фактов. Если тот или иной институт не соответствует современному уровню задач, зачем его консервировать и питаться его иллюзорными достижениями? Может, есть смысл провести реформу? Или создать новое?
Поскольку в данной работе внимание сконцентрировано исключительно на партийной политике власти, то возможные шаги будут рассмотрены через призму партийного поля. Здесь может быть намечен ряд направлений.
Первое. Моделирование партийного поля должно преследовать три задачи:
1) создание настоящего консервативного рупора власти, мобильного, современного, эффективного и конкурентного;
2) партийное моделирование должно преследовать цель полностью «вымыть» из политического пространства партии вне политики, вне легитимности;
3) для этого все нелегитимные политические акторы, путем манипулирования, объединения-разъединения-слияния, должны быть максимально растворены, переадаптированы.
Такую работу можно проделать, проведя исследование на наличие «правого» сегмента у всех политических акторов – от либералов до национал-радикалов. Эта общность взглядов, путем моделирования, создания общих площадок и компромиссов, приводит к общности платформ, задачей которой является укрупнение основных форматов и распыление на периферию – незначительных.
Второе. Возможна ли реализация проекта «правой идеи» на основе партии Нур Отан? Правящая партия является де юре социал-демократической партией, а де факто аморфной тоталитарной системой.
В то же время эта партия всегда являлась публичным стержнем политической опоры Президента, поэтому в основу любых преобразований в партийном поле должна лечь судьба Нур Отана. В вышеописанной модели двухпартийного политического поля место НДП НО достаточно четко определено. Так или иначе, в создании любых новых структур будет использоваться организационный опыт правящей партии.
Вопрос стоит несколько по-иному – можно ли просто трансформировать НДП НО в «правую партию» и решить таким образом все задачи? Ни в коем случае. Нур Отану не следует уходить из социал-демократического поля, поскольку это будет означать оставление его на произвол другим социал-демократам.
Возможен такой сценарий: Нур Отан участвует в реализации «правой идеи» путем рассегментирования на фракции, которые лягут в основу двух пропрезидентских партий – консервативного и социал-демократического толка. Реализацией такого сценария можно добиться максимального контроля над процессом.
Третье. Возможно и создание партии «с нуля». Однако самое главное в разделе административных полей – это, чтобы не оказалось, что в новом субъекте соберутся «богатые и при власти», а в НДП НО – безвлиятельные бюджетники и аутсайдеры. Фактически крупный капитал должен отойти от командных высот в госслужбе и нацкомпаниях и выйти во фронт новой партии. Естественно, ожидать, что раздел пойдет в «чистом виде» не следует. Однако основные алгоритмы нужно максимально выдерживать.
Четвертое. Начать мониторинг, изучение комплекса «сакральных ценностей» казахстанского общества, с целью их аккумулирования в новой партии на консервативной основе и в «старой» – на реформаторской. По сути, эти два течения и представляют собой две ипостаси Президента.
Пятое. Вернуться к полноценной стратификационной стратегии в ресурсах обеих партий. Списывать рост температуры протестности исключительно на кризис – это пустое пассивное ожидание поражений и откровенная реактивность политики.
Одним из центральных звеньев стратификационной политики сделать многоуровневые отношения с казахстанским предпринимательским классом во всем его многообразии.
* * * * *
В заключении необходимо конкретизировать следующее:
В политологическом смысле создание двукрылой системы не должно происходить исключительно по причине того, что существующие инструменты не до конца эффективны и следует потратить ресурсы на создание новых.
Речь идет о создании сбалансированной политической доминанты в общественном сознании Казахстана, которая эффективно перекрывает возможности развития левого либерализма и других левацких доктрин. К ним относится чрезвычайно широкий спектр – от либертарианцев до набирающего силу исламского социализма. Именно эти доктрины представляют собой основную угрозу стабильности развития страны, поскольку они преследуют по факту одну единственную задачу – осуществить смену политического строя.
То, что в стратификации предприниматели выделяются в абсолютный приоритет – это следствие того, что именно они станут ареной борьбы с либеральным «левачеством».
Создание «правой» партии – это в некотором смысле кардинальная смена поля. Но это проактивная позиция, рассчитанная на то, чтобы не реализовались все угрозы, накопленные в ужесточающемся межэлитном противостоянии. Такая позиция позволит одновременно решить две задачи – как создание нового субъекта, так и оживление НДП НО. Это важно, потому что социал-демократический сегмент сконцентрирован на укреплении массовой поддержки политического строя, в то время как «правый» сегмент – конкретно на сохранении status quo в общественных и экономических отношениях.
Опыт «второй президентской» в виде партии Асар содержит больше негативный опыт, нежели позитивный. Однако Асар был абсолютно левацкой партией, откровенно анти-консервативной. Создатели Асара не старались охватить доминантой весь политический спектр в интересах Президента, скорее ставили целью девальвировать Отан, демонстрируя свои амбиции на статус «лидирующего клана» при нем.
Таким образом, одной из самых главных целей создания «правой идеи» является следующее – «правая партия» позволит сделать то, чего не получается в социал-демократическом Нур Отане. Неоконсерваторы – это партия богатых, и одной из задач партии будет преодоление и нивелировка большинства процессов бескомпромиссной межэлитной борьбы, вывод ее на публичное поле.
* * * * *
(2010г.)
Идея реализации партии правого толка при понимании правой идеи в рамках классических политологических представлений, является относительной новацией для Казахстана. С этим связано то, что разработка последовательного сценария сегодня представляется не слишком реалистичной задачей при нерешенности ряда необходимых политических условий.
В то же время необходимо иметь некое правильное представление о верной последовательности действий, чтобы сохранить не только логику процесса, но и не утерять смыслового, доктринального содержания, что является довольно частым в нашей стране.
Поэтому в данном документе будет отражено три подхода, в виде основных элементов сценария:
- Версии политического климата вокруг создания правой партии;
- Ключевые события, которые необходимо расставить во времени;
- Некоторые ключевые детали, которые вносят значительный вклад в верно организованную драматургию процесса.
Версии политического климата.
В принципе здесь подразумевается изначально заданная тональность, в которой может пройти процесс. Ключевой политической силой, являющейся источником формирования тренда, является Президент. Виды политического климата формируют различные алгоритмы.
В таблице № 1 представлена зависимость алгоритмов от избранного политического климата кампании.
Основным актором является Президент. Сопровождающими акторами – различные социальные группы общества.
Таблица № 1
| Тип климата вокруг кампании | Алгоритм основного актора (Президент) | Алгоритм сопровождающих акторов | Результат позитив | Результат негатив |
| Гипероткрытый | Президент выступает с открытой программной речью, в которой говорится о необходимости создания двухпартийного баланса в стране и разъясняет доктринальный смысл правого и левого содержания. | Дискуссия в Нур Отане, раздел на фракции. Создание правой фракции как основы правой партии. Бизнес структуры (типа Атамекен и Форума предпринимателей) определяются с политическими ориентирами | Дисциплинированный план мероприятий. С самого начала известен и открыт результат. Кампанию можно повести быстро. политические инструкции прямые.
|
Насыщенная общественная дискуссия, которую е всегда можно регулировать. Рост борьбы компроматов. Необходимость в теоретической части отразить весь комплекс реформы – от конституционно-правовой до отдельного человека |
| Открытый с приглашением к инициативе | Президент выступает с рекомендательной речью, обещая, в случае создания правой партии гарантировать свободу политической конкуренции
|
Появляются инициаторы, которые поддерживая курс Президента, проводят кампанию. Оргкомитет создается вне Нур Отана. Новая партия лишь потом «перетягивает членов партии в новую» | Политическая ответственность частично делегирована в строну второстепенных акторов | Плохо регулируемый процесс перехода партийцев из партии в партию. Возникает большая группа «политически «растерянных» из-за косвенности инструкций. |
| Латентный с инициативой других сил | Президент является пассивным актором, «подчиняющимся создавшимся условиям» | Инициативная группа заявляет о создании Оргкомитета партии и о самостоятельности проекта | Политическая ответственность почти полностью делегирована в сторону второстепенных акторов. | Если правая идея стоит на стороне сохранения строя, то непонятно, почему новая партия создается без Президента? |
Ключевые события, которые необходимо расставить во времени.
В случае реализации любого сценария Президенту необходимо посвятить в его содержание и конечную цель ближний круг сторонников и более расширенный состав. На этих «конкордатах» разъясняется главный аспект – то, что Президент возвращает себе «арбитражный» статус, но приобретает статус «патрона обеих организаций». При этом определяется период, в течение которого Президент остается главой Нур Отана, как наиболее уязвимого звена проекта.
Разъяснительная информационная кампания вокруг доктринального содержания «правой идеи» становится основным организационным элементом. Информационная кампания обладает важнейшей задачей – всех оппонентов и сторонников расставить в новом формирующемся политическом спектре так, чтобы в итоге фактически ликвидировать нелегитимный лагерь в стране.
Создание модерационных площадок с формальной оппозицией – также необходимый элемент, целью которого является «приведение к согласию» всех акторов политического поля в стране. На них фактически происходит обсуждение проектов легитимации лидеров оппозиции, «раздача слонов» – «лидерства» в новом спектре, резкое сужение нелегитимного левого крыла политики. Идеальный результат – если крайнее левачество останется только за рубежом.
Разделение ресурсов – это тема отдельного заседания конкордата, возможно и не одного. Главная цель – утверждение правил конкуренции и разделение полей деятельности в срезе власть – капитал – СМИ. Причем доминирование в административной власти предположительно уходит к социал-демократическому Нур Отану, капитал – к правому субъекту, а СМИ разделяются партитетно.
Разделение персоналий – Это самый сложный процесс – разделения критериев, по которому персоналии разойдутся по лагерям. Первыми недовольными будут правые, поскольку сильно потеряют во властном ресурсе, так как критерием членства в социал-демократическом крыле будет карьерный выбор в ущерб капиталу. В правом крыле наоборот – сохранение капитала за счет отказа от карьерности. Разделение персоналий де-факто осуществит частичную деолигархизацию (в идеале). Однако основным контекстом персональной политики является сегментирование политической ответственности – снятие ее львиной доли с Президента и публичная политизация тех. Кто сегодня предпочитает все публичные проблемы сгрузить на Главу государства.
Создание правой партии должно пройти так, как это сделал Ататюрк, своими руками создав либеральную республиканскую партию в 1927 году, фактически поименно назначив ее лидера (Али Фетхи Окъяр – ставший после смерти Ататюрка одним из кандидатов в президенты) и актив. Он это сделал, проведя ряд совещаний по новым правилам конкуренции со своим ближним кругом. Несмотря на то, что проект потерпел неудачу (в большей степени из-за того, что создавалась не правая партия, а либеральная), период существования новой партии отмечен радикальным оживлением политики и прекрасной школой политической конкуренции для новой республики. Неудачу проекта часто связывают не с доктринальной задумкой, поскольку сам Ататюрк жалел о вынужденном роспуске партии, как о поражении политического курса в целом, а с тем, что Али Фетхи начисто поиграл борьбу Исмету Иненю – тогдашнему премьер-министру и будущему президенту посткемалевского периода, опиравшемуся на мощь административного ресурса. Однако это подробности, которые имеют ценность только в контексте истории Турции. В целом, эксперимент Ататюрка привел к укреплению государственности в республике и позволил избежать возникновения в стране диктатуры по «большевистскому и фашистскому образцу».
Введение всеобщего декларирования доходов представляет собой ключевой момент в проведении персонального создания обеих партийных крыльев. Несмотря на то, что социал-демократы оставляют за собой больше властных ресурсов, они становятся наиболее уязвимыми, поскольку а) фактически теряют своих спонсоров и меценатов; б) оказываются практически никем не представленными в конкордате. Поэтому защита интересов эсдеков на конкордатах становится полностью миссией Президента.
Ключевые детали драматургии.
Базовое понимание создаваемого баланса сил: левое крыло – продолжение реформ, правое крыло – консервация накопленных традиций.
Отсюда необходимость составления Теоретической карты градации исторических традиций (по явлениям и персоналиям (пантеон). Это закрытый документ, отражающий распределение доктрин по принципу: храним/развиваем/берем на вооружение – ликвидируем/реформируем/создаем новое. Это позволит навести порядок в реально накопленной системе ценностей, в которой сегодня отсутствует исторический оценочный стержень.
Базовым стратегическим документом кампании должна стать новая Карта партийно-политического спектра Казахстана, которая представляет собой графическое отображение решений по сегментам идеологии, персоналиям и изменениям юридического статуса партийных институтов (слияния/объединения/ликвидации) сегодняшнего расклада сил. Отражается динамика перевода этих доктринальных и организационных сегментов в правый и левый лагеря соответственно.
Необходимо быть готовым к проведению реформы в конституционно-правовом поле, в частности, в Законе о выборах, Законе об общественных объединениях (партиях).
(2010г.)
Сегодня роль политических партий в общественно-политической жизни страны, если ее оценивать по классическим меркам партийного функционирования, сведена к своему относительному минимуму. Должную активность и влиятельность сохраняет лишь партия власти, функционирование которой четко регламентируется президентской политикой.
В тоже время развитие социально-экономической ситуации и внутриполитических процессов привели к тому, что повестка парламентских выборов 2012 года будет радикально отличаться от повестки внеочередных выборов 2007 года. Дополнительные сложности будут связаны с тем, что на 2012 год приходятся и очередные выборы Президента Республики Казахстан, а также выборы в маслихаты областей и городов республиканского подчинения.
В силу столь высокой концентрации избирательных процессов обстановка 2012 года обещает стать одной из самых политизированных. Для сохранения управляемости внутриполитических процессов, снижения накала политической борьбы, поддержания внутриполитической безопасности требуется уже сегодня принять ряд принципиальных решений по конструированию «политической реальности», направлению политических процессов в нужном ключе.
- I. Общие тенденции развития, параметры текущей ситуации
На 1 января 2010 года в Казахстане действовали 9 зарегистрированных и 1 незарегистрированная политические партии.
| Провластные партии | Умеренная оппозиция | Радикальная оппозиция | |
| Партии-лидеры
(партии в Мажилисе Парламента РК)
|
НДП «Нур Отан» | ||
| Партии второго уровня | «Руханият»
(идет процесс переформати-рования в экологическую партию)
|
ДПК «Ак жол»
«Адилет»
КСДП «Ауыл»
КНПК
ППК |
ОСДП «Азат»
КПК
«Алга!» (незаригистри-рована) |
С учетом сложившегося однопартийного парламента, существуют очевидные как положительные, так и отрицательные аспекты.
Плюсом является высокая степень управляемости и предсказуемости политического поля.
Минусы связаны с отсутствием альтернативных мнений в парламенте, что приводит к застою, стагнации и оторванности от реальной ситуации, отсутствию возможности дистанцирования от ошибочных экономических и политических решений.
Оборотной стороной выборов 2007 года стала радикализация партий, непрошедших в Мажилис. Даже «мелкие» лояльные партии не готовы взаимодействовать с партией власти, кроме как через посредничество Президента.
Принятие в 2009 году поправок в Закон о выборах создает ситуацию, при которой следующий созыв Мажилиса будет формироваться минимум двумя политическими партиями. Это обстоятельство делает политическое соперничество между партиями второго уровня еще более ожесточенным.
А) Электорат 2010-2012гг.: формальные параметры
Предвыборная борьба партий будет проходить в принципиально новых условиях по сравнению с 2007 годом.
Общее количество казахстанских избирателей на парламентских выборах 2007 года составило около 9,1 млн человек. Можно прогнозировать его количественное увеличение к 2012 году до 10 млн.
Важнейшая тенденция – преобладание доли казахоязычных избирателей (более 50%), будет отличать предстоящие выборы от всех предыдущих (ранее русскоязычные избиратели преобладали количественно). Поэтому борьба за этих избирателей выходит на первый план.
Вторая важная тенденция – рост политической апатии основной массы городских избирателей, особенно – городов Астана, Алматы, областных центров. Снижение реальной явки на выборах позволяет шире использовать такие формы «грязных» избирательных технологий как вброс бюллетеней, подвоз избирателей, голосование по подложным спискам избирателей.
Третья тенденция – увеличение доли нерегистрируемых внутренних мигрантов, не имеющих возможности принять участие в выборах без получения открепительного удостоверения (открепительного талона). Как правило, эта социальная группа является одной из самых уязвимых, и в тоже время не имеет возможности политического самовыражения. Именно эту группу следует рассматривать как среду для вызревания внесистемных форм политического протеста.
Б) Электорат 2010-2012гг.: идейные ориентиры
В идеологическом отношении все партии отличаются эклектизмом, а партии второго уровня – еще и социал-популизмом. Эклектичность идейных ориентиров политических партий, а также их социал-популизм обусловлены идеологической незрелостью казахстанского электората. Идейные предпочтения граждан еще находятся в стадии формирования.
Более продуктивным при рассмотрении идейной палитры казахстанского общества представляется опора на оценки граждан в отношении перспектив реформирования страны. Различные социологические службы (КИСЭиП, ЦЕССИ-Казахстан, АСиП, «Стратегия») в обобщенном виде дают следующие оценки респондентов в отношении существующей политической системы:
| Оценка политической системы | Доля респондентов | |
| 1 | Политическая система полностью устраивает | 20% (+/-3%) |
| 2 | Систему надо радикально менять | 15% (+/-3%) |
| 3 | Систему можно изменить путем постепенных реформ | 40-45% (+/-3%) |
| 4 | Затруднились ответить | 20% (+/-3%) |
Таким образом, доля политических радикалов остается в пределах 15-18% от основной массы избирателей, что согласуется с результатами прошлых избирательных кампаний (в рамках прошлых избирательных кампаний доля протестно голосующего электората не превышала 10-17%). Риски увеличения протестной ниши за счет увеличения количества социально незащищенных сельских избирателей и жителей пригородных зон отчасти компенсируются ростом их абсентеизма. Кроме того, значительная их часть не имеет регистрации по месту фактического проживания в городах (съемное жилье, общежития, «самострой»), и также не может принять участия в выборах.
При сохранении существующих социальных условий доля протестного населения, намеренного принять участие в выборах, останется на прежнем уровне, но при параллельном процессе их все большей радикализации. При этом нужно подчеркнуть, что даже небольшого количества протестно настроенных радикалов (50-100 тыс. человек) вполне достаточно для реализации «оранжевых» сценариев оппозицией при пассивности большинства провластных горожан.
- II. Проблемы развития партийного пространства
Перед политической системой страны стоит несколько узловых проблем, связанных с недостаточно эффективной деятельностью государственных и общественных институтов, конкурентоспособностью нации и качеством социально – политического менеджмента:
- Неразвитость институтов гражданского общества, эрозия партийно-политического и информационного пространства – и, как следствие, нарастание политической апатии граждан, накопление «негатива», уход в деструктивные организации и структуры;
- Проблемы качества административного управления, судебно-правоохранительной системы;
- Незавершенность целого ряда институциональных реформ, ухудшение бизнес-климата;
- Внешнеполитические угрозы, связанные с фундаментальными изменениями геополитической ситуации в мире, увеличивающимся внешним информационным и политическим давлением.
Промедление в решении данных проблем существенно повышает риски политической дестабилизации.
Риски политической дестабилизации
Данные риски традиционно связываются с отдельными социальными группами: жителями сельской местности, самозанятыми, молодежью.
К числу наиболее вероятных каналов социально-политической дестабилизации можно отнести следующие:
А) Дальнейший неконтролируемый рост социальной напряженности, вызванный последствиями кризиса.
При рассмотрении перспектив роста социальной напряженности необходимо учитывать неравномерность ее локализации в обществе. Даже если период кризиса будет относительно коротким в целом для экономики Казахстана, для отдельных социальных групп его продолжительность может существенно разниться.
Б) Рост недовольства среди молодежи, в особенности сельской, как следствие усложнения ее социальной адаптации в условиях кризиса.
В) Рост межэтнической напряженности, обусловленной значительными различиями в распределении материальных ресурсов между различными социально-политическими группами.
Использование этих рисков внесистемными внутренними и внешними игроками можно наблюдать уже сегодня. Но в условиях резкой политизации общества накануне и в период избирательных кампаний 2012 года необходимо расширить набор инструментов и методов поддержания внутриполитической стабильности.
Обществу с одной стороны нужны новые каналы для «утилизации протестности», но с другой стороны – эти каналы не должны приводить к потере управляемости внутриполитических процессов. Система с доминирующей партией (полуторапартийная система), сформированная в Казахстане, нуждается в дальнейшем развитии.
Проблемные моменты в деятельности НДП «Нур Отан»
В настоящее время НДП «Нур Отан» благодаря наличию широких административных, информационных и организационных ресурсов сумела значительно усилить свои позиции, и стать «центром», диктующим правила игры для остальных участников политического поля.
Можно выделить следующие обстоятельства, которые в среднесрочной перспективе могут выступать в качестве основных факторов, влияющих на позиции НДП «Нур Отан» на электоральном поле:
- уровень доверия к власти, в частности, к Президенту;
- уровень электоральной поддержки оппозиции;
- степень включенности партии в общественную жизнь страны.
Учитывая текущий высокий рейтинг Президента, можно предположить, что в среднесрочной перспективе первый фактор сохранит позитивное воздействие на имидж «Нур Отана». Второй фактор также не представляет особого риска для партии, так как, согласно социологическим замерам, уровень электоральной поддержки оппозиционных партий не превышает критической отметки. Вместе с тем, наличие третьего фактора представляет для «Нур Отана» широкое поле деятельности: население страны пока плохо связывает собственное благополучие с деятельностью этой партии.
Одна из проблем партии в ближайшей перспективе будет заключаться в отсутствии общей идеологической идентичности. Это связано, во-первых, с размытым электоральным ядром партии. Население, составляющее ее электорат, объединено по принципу доверия к Президенту, а не по идеологическим установкам.
Как инструмент, НДП «Нур Отан» «болеет» проведением реактивной политики и ментально-этическими импровизациями отдельных партийцев, ничего общего не имеющими с политической платформой правящей партии. В состоянии «единственности во власти» партия очевидно лишена «единства выражения» партийной платформы на публике. В больше степени это объясняется тем, что не она сама ее придумывала, а занимается лишь публичной поддержкой и продвижением президентских стратегических планов.
Во-вторых, кадровый состав партии является совершенно разнородным как в идеологическом, так и в социально-культурном плане. В дальнейшем идеологическая разрозненность партии, скорее всего, будет приобретать более выпуклый характер, и в случае ослабления президентского контроля существует риск фракционного раскола партии по различным группам интересов. В качестве вариантов могут рассматриваться:
- отраслевое разделение (банкиры, строители, аграрники);
- по принципу «либералы – консерваторы»;
Вторая проблема связана с усилением в обществе национал-патриотических трендов и необходимостью их аккумулирования и перевода в легитимное политическое поле. Наиболее допустимыми вариантами развития ситуации представляются:
1) Создание новой партии и предоставление ей возможности выражать интересы национал-патриотической волны;
2) Возложение этой роли на «Нур Отан».
Для «Нур Отана» оба эти сценария несут серьезные политические и электоральные риски: в первом случае возможно появления сильного конкурента на партийном поле, имеющего четкое электоральное ядро. Во втором случае партия рискует отторгнуть значительную часть своего электората, в связи с отходом от центристского курса.
Поиск новой идеологической платформы радикальной оппозицией
Идеологическая незрелость казахстанского общества делает востребованными крайние радикальные лозунги. Неслучайно процесс формирования идеологии объединенной ОСДП «Азат» проходит в национал-патриотической плоскости. Оппозицией взят курс на формирование радикально настроенного меньшинства, способного взломать ситуацию в стране – в первую очередь, путем реализации того или иного «оранжевого» сценария.
Дополнительное окно возможностей открывается в связи с абсолютным доминированием партии «Нур Отан» в политической системе страны. Это доминирование спровоцировало появление запроса на политическую альтернативу. Будучи партией, формирующей Правительство, «Нур Отан» автоматически берет на себя всю полноту ответственности за социально-экономическое состояние страны, и становится объектом критики со стороны протестно настроенных граждан.
В этих условиях любая политическая сила, способная представить обществу альтернативу курсу партии «Нур Отан», может приобрести статус второй партии. Уже сформирована ситуация, при которой игра на контрасте с «Нур Отаном» приносит быстрые политические дивиденды.
Формирование этнооппозиции, эксплуатация казахско/русскоязычных реальных и мнимых противоречий – наиболее простой способ мобилизации сторонников.
В тоже время лидеры радикальной оппозиции не до конца отдают себе отчет, что сближение с национал-патриотами – это союз «против — …». У столь разнородных сил нет общей платформы для выработки позитивной политической программы, да и сами лидеры ОСДП «Азат» вряд ли будут пользоваться существенными симпатиями у национал-патриотов (в частности, Б. Абилов). Радикальная оппозиция стремится выйти в новый для себя электоральный сегмент, но при этом стремительно теряет старый: либерально – демократических сторонников. Существует риск того, что институциализировав национал-патриотическую волну, лидеры радикальной оппозиции не смогут сохранить над ней контроль в 2012 году.
Кризис казахстанской умеренной оппозиции
Одним из самых свободных секторов партийного поля Казахстана является идеологическое пространство умеренной оппозиции. В 2003 – 2004 годах этот сектор занимала партия «Ак жол», которая по результатам голосования на выборах 2004 года заняла второе место. Однако раскол партии на умеренное и радикальное крыло подорвал доверие к ней. В результате на президентских выборах 2005 года лидер партии Алихан Байменов набрал менее 1,5% голосов избирателей, что почти в 10 раз меньше результата партии на парламентских выборах. Неудачным было и участие партии в парламентских выборах 2007 года.
Существующие умеренно-оппозиционные партии второго уровня не имеют ресурсов для успешного участия в предвыборной борьбе. Пестрый состав, разброс идеологических ориентиров (от левой КНПК – до либерального «Ак жола»), разные ресурсные возможности не позволяют сформировать умеренно-оппозиционную партию путем простого объединения организаций. При этом следует отметить, что за период с последних парламентских выборов, многие из умеренно-оппозиционных партий банально трансформировались в лоббистские группировки.
В то же время умеренно либеральный оппозиционный электорат никуда не исчез, он просто перестал ходить на выборы. Но в условиях предстоящего роста политизированности произойдет и его поляризация – часть этой электоральной группы может поддержать радикальную оппозицию. На фоне кризисных процессов в экономике происходит деградация среднего класса. У ранее социально успешных граждан увеличивается уровень оппозиционных настроений.
Эти обстоятельства в более острой форме ставят проблему «формирования сверху» новой умеренной оппозиции – как инструмента фиксации электората с целью недопущения его перетекания в радикальное поле.
III. Перспективы развития партийного пространства
Предстоящие в 2012 году выборы в Мажилис Парламента РК позволяют преодолеть ряд существенных недостатков в нынешней партийно-политической системе:
- Во-первых, расколоть национал-патриотический электорат между несколькими лидерами и организациями, не позволяя нацпатриотам преодолеть 7%-й барьер;
- Во-вторых, необходимо реализовать возможность формирования парламентского спарринг-партнера для НДП «Нур Отан» в виде новой правоцентристской партии.
Шаг 1: Фрагментация национал-патриотического поля
Данное направление является ключевым в предстоящей избирательной кампании.
Переход казахстанской оппозиции на идеологическую платформу национал – патриотов ставит перед властью задачу коррекции партийного пространства. Риск противопоставления «этноориентированной» и «гражданскоориентированной» идеологий заключается в смысловом смещении НДП «Нур Отан», потери партией власти статуса центристской.
Представляется важным провести глубокую работу по фрагментированию национал – патриотического пространства, путем создания одной – двух умеренных «этнопартий».
Целями формирования умеренно-оппозиционной этнопартии являются:
- раскол протестного электората существующей оппозиции;
- разрядка общественно-политического напряжения казахоязычного электората;
- формирование информационных «шумов» при обострении этнодискуссий в обществе, «глушение» внесистемной национал-патриотической оппозиции.
Упрощенный образ сторонника подобной партии: этнический казах, преимущественно из сельской местности и малых городов, пригородов областных центров, в семье говорящий на казахском языке, имеющий среднее образование, достаток ниже среднего, «самозанятый», политически активное «социальное дно», которому, образно выражаясь, «нечего терять».
При благоприятных условиях – в первую очередь при использовании эффекта новизны, а также жестком соблюдении адресности работы партии возможно успешное закрепление этнически ориентированной электоральной базы.
В 2004-2007 годах сформировалась следующая география поддержки возможной «этнопартии» – Юг, Юго-Восток, Запад страны. Результаты избирательных кампаний 2004-2007 годов позволяют оценить количество потенциальных «этноизбирателей» в 1,5-2 млн человек (до 20% электората). В долгосрочной перспективе возможно существенное расширение этой социальной базы (до 3 млн) за счет увеличения доли сельской молодежи и миграции оралманов. Удержание партией половины протестного электората, недопущение получения радикальными национал-патриотами 7% голосов избирателей, может считаться индикатором успеха.
В долгосрочной перспективе формирование управляемой этнопартии будет играть важную роль и в процессах трансформации идентичности казахстанцев (переходе от этнической самоидентификации к гражданской). В этой трансформации партия будет выполнять ряд функций:
- стабилизирующую, которая будет выражаться в декларировании специфических интересов казахского этноса в процессе построения гражданской нации (таких как сохранение и развитие языка);
- оценочную, которая будет выражаться в принятии предлагаемых механизмов сохранения этничности на культурном, но не политическом уровне;
- мотивационно-мобилизирующую, которая будет нацелена на консолидацию этноориентированной части общества вокруг идеи гражданской нации.
Упрощая, можно сказать, что данная партия должна будет содействовать созданию атмосферы «казахскости» формирующейся гражданской нации.
По аналогии с радикальной и умеренной оппозицией, формируются понятия радикального и умеренного национализма. Умеренный национализм адаптируется к условиям функционирования в пространстве гражданской нации, а радикальный – маргинализируется, выводится на периферию политической и идеологической жизни.
Наиболее перспективным представляется управляемая активизация ДПК «Ак жол» в национал-патриотическом направлении. Этому способствует как определенная харизма ее лидера – А. Байменова в казахоязычной среде, так и факт выступления партии с альтернативным документом Концепции новой национальной политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы. Партия «Ак жол» смогла бы «разбить» часть голосов нацпатриотов, на которые сейчас претендует ОСДП «Азат».
Шаг 2: Формирование правоцентристской партии
Востребованность институционализации «правой идеи» проистекает, прежде всего, в необходимости сохранения и дальнейшего развития всего накопленного позитивного потенциала в сфере экономического развития, государственного строительства, межнациональных отношений и всех остальных фундаментальных ценностей современного государства Казахстан.
Речь идет о создании сбалансированной политической доминанты в общественном сознании Казахстана, которая эффективно перекрывает возможности левого либерализма и других левацких доктрин. К ним относится чрезвычайно широкий спектр – от либертарианцев до набирающего силу исламского социализма. Именно эти доктрины представляют собой основную угрозу стабильности развития страны, поскольку фактически они преследуют одну единственную задачу – осуществить смену политического строя.
Выбор в качестве основного стержня «правой партии» — предпринимательской страты нашего общества – следствие того, что именно они станут ареной борьбы с либеральным «левачеством».
Здесь важно заметить, что после выборов 2004-2005 годов все партии второго уровня в той или иной степени скатились к социальному популизму. Вернуться к политической рациональности пока не удалось ни одной из них. Главной отличительной чертой новой партии могла бы стать, с одной стороны, реалистичность выдвигаемых инициатив, отличающая ее от других партий второго уровня. А с другой стороны – ревизия обоснованности реализуемых экономических проектов, отход от гигантомании Правительства и НДП «Нур Отан».
Создание «правой» партии – это в определенной степени кардинальное переформатирование партийного пространства. Это проактивная позиция, рассчитанная на то, чтобы не реализовались все угрозы, накопленные в ужесточающемся межэлитном противостоянии.
Конструктивное взаимодействие двух стоящих на государственных позициях партий, а также их сотрудничество в решении актуальных проблем будут способствовать формированию цивилизационной политической культуры в обществе, консолидации общества для движения вперед. Одной из самых главных целей создания «правой идеи» является следующее – «правая партия» позволит сделать то, чего не получается в социал-демократическом «Нур Отане». А именно, если социал-демократический сегмент «Нур Отана» сконцентрирован на укреплении массовой поддержки политического строя, в то время как «правый» сегмент будет – конкретно на сохранении status quo в общественных и экономических отношениях.
Образ сторонника партии: житель крупного города (Астана, Алматы, областные центры), представитель МСБ, служащий крупных корпораций.
Электоральная сверхзадача партии – набрать большее количество голосов избирателей, нежели партии национал-патриотического толка, занять по итогам выборов второе место (при этом не обязательно набирать 7% голосов расшатывая партийную монополию «Нур Отана» – в соответствии с новым Законом о выборах достаточно просто занять второе место для попадания в Мажилис Парламента РК).
При этом вариантов институционализации «правой идеи» несколько:
Первый вариант предполагает такой сценарий: «Нур Отан» участвует в реализации «правой идеи» путем рассегментирования на фракции, которые лягут в основу двух пропрезидентских партий – консервативного и социал-демократического толка. Реализацией такого сценария можно добиться максимального контроля над процессом.
Второй вариант предполагает создание партии на основе действующих, содержательно близких «правой идее» партий, движений.
К примеру, в течение 2005 года оформилось движение в защиту предпринимателей «Атамекен», лидеры которого высказывали тезисы о необходимости создания политической партии, ориентированной на защиту интересов предпринимателей. В начале текущего года в связи с созданием Таможенного союза вопросы поддержки малого и среднего бизнеса вновь приобрели актуальность. Все это создает благоприятные условия для начала процесса трансформации союза предпринимателей «Атамекен» в правоцентристскую партию.
Третий вариант основан на создании партии «с нуля». Здесь главный риск заключается в том, что при разделе административных полей – в новом субъекте соберутся «богатые и при власти», а в НДП «Нур Отан» – безвлиятельные бюджетники и аутсайдеры. Поэтому крупный капитал должен отойти от командных высот в госсслужбе и нацкомпаниях и выйти во фронт новой партии.
Шаг 3: Поддержание лидерства НДП «Нур Отан»
Для закрепления своего успеха в долгосрочной перспективе партия должна стать модератором общенациональной политической и социально – экономической повестки 2012 года, проводником политического курса Президента.
Фоном для подготовки партии к новому избирательному циклу является наличие следующего набора факторов:
- Сохраняющийся запас экономической прочности страны.
- Наличие широкой социальной базы поддержки Президента – Лидера партии.
- Международное сообщество, в лице инвесторов, ТНК, стран-союзников, заинтересовано в сохранении стабильности в стране.
- Сохраняющаяся разобщенность и политическая слабость оппозиционных сил, низкий уровень поддержки их лидеров среди населения.
Необходимость повышения эффективности управления государством и обществом, усиление ресурса общественной поддержки власти требует от НДП «Нур Отан» большей интеграции в общественно – политические процессы, развития инструментов общественного контроля за деятельностью исполнительных органов власти.
Сложности усугубляются недостаточным содержательным наполнением работы партии, запаздыванием с реакцией на актуальные проблемы, волнующие общество.
Общую картину сильных и слабых сторон партии можно представить следующим образом:
| Сильные стороны | Слабые стороны |
| Лидер партии – одновременно и Лидер нации
Доминирование во всех органах представительной власти Предпосылки для контроля вертикали исполнительной власти Монополия в информационном пространстве |
Отсутствие внутрипартийной дискуссии по приоритетам развития страны
Запаздывание с реакцией на изменение внешних условий Наличие внутрипартийных групп Слабый политический менеджмент Слабая система обратной связи с обществом |
Основные направления работы партии власти
- Борьба за расширение базы общественной поддержки проводимого политического курса требует от партии большей мобильности в решении долгосрочных и ситуативных социальных вопросов. На данном этапе партии необходимо очертить круг партийных приоритетов в реализации государственной социальной политики. Партия должна систематизировать уже выдвинутые социальные инициативы власти, критически их пересмотреть. Шаги по повышению социальной защищенности общества должны быть дополнены инициативами по дальнейшему развитию внутриполитического диалога, взаимодействию со структурами гражданского общества – профсоюзами и неправительственными организациями.
- Партия должна активно формировать гражданское общество путем содействия развитию партнерских НПО – предпринимательских ассоциаций, молодежных движений, женских организаций, национальных центров и т.д. Большое значение будет иметь конкретная и действенная помощь этим НПО на законодательном уровне, а также поддержка во взаимодействии со структурами исполнительной власти всех уровней. Все это позволит партии занять лидирующие позиции в третьем секторе, обеспечить структурирование интересов граждан, их политическое интегрирование и мобилизацию.
- Будучи партией власти НДП «Нур Отан» имеет неограниченные возможности по представительству своих интересов в государственных органах всех уровней. В силу этого перед партией стоит задача существенного повышения качества парламентской деятельности, и эффективности взаимодействия с Правительством в целях ускорения реализации предвыборной партийной программы. Аналогичные действия необходимы и на местном уровне: региональные филиалы – депутатские группы в маслихатах – акиматы.
Основные задачи партии при взаимодействии с государственными органами должны заключаться в следующем:
- Анализ деятельности органов исполнительной власти на предмет соответствия программе партии;
- Анализ деятельности депутатов от партии;
- Общая оценка эффективности деятельности партии, рекомендации по ее повышению.
Ожидаемые результаты.
Предложенный сценарий развития партийной системы представляется наиболее оптимальным вариантом для современного Казахстана. Его реализация в среднесрочной перспективе позволяет:
- во-первых, сохранить стабильность во внутриполитической сфере, без изменения политической архитектуры;
- во-вторых, минимизировать возникающие социальные издержки, связанные с экономическими трудностями;
- в-третьих, отказываясь от навязанных моделей, планомерно реализовать собственное видение модернизации страны.
Стратегическая цель – создание благоприятной электоральной и идеологической базы для проведения президентских и парламентских выборов в 2012 г.
(2010г.)
1. Что такое Soft Power, как предмет исследования?
Сегодня будет откровенным преувеличением говорить, что изучение Soft Power (SP) существует в виде системного научного исследования. Имеются лишь попытки проанализировать эмпирические представления, полученные от столкновения с этим феноменом в различных странах, а также черты SP, наблюдаемые в нашей стране.
Эти представления говорят нам следующее: SP является внешнеполитической практикой, широко применяемой США в отношениях с другими странами. Это некий манипулятивный комплекс, который позволяет Вашингтону добиваться неких собственных результатов в той или иной стране. Считается, что он добивается этого довольно успешно.
Далее известно, что выражение «soft power» было предложено Джоном Найем, профессором Гарварда в конце 90-х. Предполагалось, что «soft power» означает оказание воздействия на политические процессы иными мерами, нежели «hard power» – то есть путем дебатов по вопросам культуры, прав человека, идеологи, попытка воздействовать положительным примером и обращение к повсеместно признанным общечеловеческим ценностям.
Из открытых источников известно также, что на «soft power» и «public diplomacy» в США расходуется около 1 % оборонного бюджета.
Различие между понятиями «soft power» и «public diplomacy» заключается в том, что первое – это методы убеждения, информационные, политические, культурологические и т.д.; а второе это PR и «то, что недавно именовалось «пропагандой».
При этом в Интернете гуляет характерный пример, когда главу Пентагона Рональда Рамсфелда спросили о роли «soft power» в войне с терроризмом, он ответил так: «Я не знаю, что такое «soft power».
Некоторые эксперты пытаются дать научное определение SP, оно звучит следующим образом: «SP – это технологии тайного принуждения личности в массовых информационных процессах».
Скорее всего, это определение не отражает всей сути SP как технологии управления, скорее здесь показан лишь один аспект действия SP как технологии.
Существует также еще одно характерное узкое понимание SP, как технология достижения целей исключительно в рамках «третьей корзины». Однако практика показывает, что это тоже заблуждение, поскольку SP не действует в рамках чистых понятий «сознание и влияние». И то и другое обладают вполне экономическим звучанием, к примеру, преследуют цели получения контроля над стратегическими отраслями той или иной страны – это, во-первых. Во-вторых, никакие технологии SP нежизнеспособны без системного и систематического финансового обеспечения, что делает эту технологию вполне экономическим, управленческим процессом.
То есть soft power – это технология, действующая на стыке двух корзин – экономической и гуманитарной, цели которой находятся в первой корзине.
Эмпирические представления говорят также, что эффективность SP прослеживается следующим образом: где-то латентно что-то создается, какие-то структуры, НПО, проекты, заказы, при этом вроде никакой взаимосвязи нет. Но во время «Ч» вся эта система начинает синхронно действовать в одном достаточно четком направлении – каждый сегмент четко отрабатывает свою роль, а вместе получается ошеломляющий мультипликативный эффект.
Причем не стоит сужать поле целеполагания действия SP только в рамках технологий переворотов. Soft Power действует ежедневно и ежечасно заставляет целые общества подчиняться воле манипуляторов, просто это менее заметно и эффектно, нежели «цветной переворот» с его флагами, митингами и рок-концертами.
Сегодня многие страны видят неоспоримое преимущество этой американской технологии управления общественным сознанием в другой стране и всячески задумываются над тем, чтобы создавать свой soft power. Но возможно ли это для другой страны? Может именно американские базовые условия позволяют SP быть успешным?
Иными словами, в рамках данного документа для Казахстана в изучении SP доминируют следующие вопросы:
- Как воздействуют на нас?
- Как можем воздействовать мы?
- А можем ли вообще и что для этого нужно?
Итак, многие склонны считать, что SP – это чистой воды инструмент американского могущества. Тем не менее, если опустить инструментарий, а оставить лишь цели – эффективное и точечное управление общественным сознанием чужой страны – то становится очевидным, что на деле существует два вида SP – американский и, назовем его – исторический.
Американский достаточно строг и сегодня прост в понимании. В сущности, сам термин SP и означает американский подход, вернее тот инструментарий, который применяет Вашингтон.
Прежде всего, в основе его лежит непременное и важнейшее условие – это достаточные средства. Известно, что общее впечатление от деятельности по организации SP в стране всегда связано с неким кажущимся «сорением деньгами». Это недалеко от истины. Потому что SP умеет тратить деньги, умеет из терять и сознательно идет на потери, не делая из этого трагедии, потому что в схеме изначально закладывается стереотипная бизнес-эффективность 80/20. В ее рамках 80 % – плановых потерь, но 20 % – составляет тот необходимый эффективный пул, который дает в итоге 80 % успеха (принцип Парето). В таком сложном деле как управление сознанием, это абсолютно приемлемая пропорция.
Более того, значение и сила денег рассматриваются не только в их ситуативном понимании (сколько), а скорее во временнОм – потраченные средства должны обладать долговременной силой, поскольку soft power – это долговременные стратегии. Не будет преувеличением говорить, что одним из фундаментальных успехов SP является разрушение СССР изнутри, прежде чем он рухнул формально.
Далее работает следующая схема:
Деньги (гранты, заказы, прямое финансирование) – НПО различного толка (конкретные задачи, не отличающиеся разнообразием, но у каждого свои) – предприятия с сетевым потенциалом (СМИ, типографии, рекламные агентства, компании сотовой связи, интернет-сайты, продюсерские проекты, молодежные инициативы) – опорные отношения (агенты влияния в любых структурах, в т.ч. государственных, агенты влияния в сфере культуры и искусства) – американские и проамериканские предприятия (управление интересами компрадорской буржуазией и ее зависимостью от внешних рынков – обмен благами, мягкое и настойчивое давление через бизнес интересы) – политические организации (партии, фракции, отдельные личности – управление через общие цели, через компромат) и диссиденты.
Вся эта схема внутри чужой страны обязательно поддерживается аналогичным пулом в США и странах американского влияния.
Система создается либо с целью синхронного действия в одном направлении во времена «Ч», либо с целью осуществления постоянного режима управления общественным сознанием.
Из описания американского SP, мы видим, что одним из источников его успеха в чужой стране является фактор, который мы назовем изобилие денег. Ведь очевидно, что, печатая доллар, ФРС США обеспечивала не только бизнес прибыли для американской элиты, но и оплачивала программы SP по всему миру.
Существует ли SP шире американского понятия? Безусловно. Достаточно бросить беглый взгляд на историю, да и на современность тоже. Вот только ряд характерных примеров:
Россия широко применяет возможности «пятой колонны» – русскоязычных, славян, персон с двойным гражданством; единым информационным пространством на территории СНГ; так называемым единым культурно-языковым пространством.
Китай успешно управляет по всему миру ханьской диаспорой, сосредоточенной в чайна-таунах. Чайна-тауны вообще представляют собой инкрустированный в общество других стран экспорт китайского образа жизни и мировую сеть. Китай успешно осуществляет экономическое завоевание влияния через экспорт дешевых товаров народного потребления. Одной из важнейших и усиливающихся тенденций soft power является такой новый феномен, как распространение многослойного бренда «Китай» в мире – от комиксов кун-фу до китайской философии.
Исламские страны (арабы) достаточно четко представляют себе то, что расширение сети мечетей, как сети, пропагандирующая тотальные подходы к образу жизни, является одним из древнейших и зарекомендовавших себя способов ментальной экспансии. Отдельные страны всячески содействуют распространению по этой сети нетрадиционных сект радикального толка. Исламский мир на сегодня четко осознает, какую фундаментальную роль в процессах формирования сознания западных обществ играют диаспоры гастарбайтеров и мигрантов.
Существует и европейский soft power – христианские миссионеры, как сетевое влияние; международные организации, в основе которых лежит миссионерский цивилизаторский принцип – «от высшего низшим». Известно, что методы работы ооновских организаций тоже по форме часто представляют собой европейский SP, поскольку «одеты в западный символизм». Необходимо отметить, что возникновение глобального информационно-культурного мира мало сказалось на консервативизме европейский цивилизаторов. При этом они достаточно успешны и выигрывают, к примеру, у православия на его «канонических» территориях.
В общем можно добавить также и то, что современный страновой брендинг – это не просто часть бизнес-маркетинга и продвижения страновой марки. Это полноценные технологии по изменению сознания в других странах, касательно восприятия образа своей страны.
Опустив многочисленные примеры действия «третьей и второй корзин» в области изменения общественной мысли, выделим три основных источника успеха soft power. По-моему это:
- изобилие денег – экономический потенциал страны, способный выдержать пропорцию 80\20. и финансирование долговременных программ;
- изобилие людей – это необязательно китайский или русский фактор больших наций, скорее здесь подразумевается умение использовать диаспоры и их распространенность. Достаточно вспомнить малые нации – евреев и армян;
- передовая идеология, философия.
Третий фактор требует отдельного разъяснения в силу особенной важности. Его понимание также потребует выхода из рамок американского стандарта понимания SP в историческое поле.
Вообще классическими каналами SP является общая культурно-политическая платформа, а вернее ценностная историческая платформа. Но здесь речь не идет о тех платформах, которые являются остаточными исторически – например, постсоветское пространство или Британское содружество, существующих как единое постколониальное поле.
Речь идет о доминирующем идеологическом тренде в мире.
Такими трендами являлись комплексные идеологии, философские системы и глобальные взгляды на пути исторического развития.
В разные эпохи ими являлись романтизм французской революции и бонапартизм, которые значительно облегчали Наполеону завоевание соседних стран, поскольку в них формировалась устойчивая «пятая колонна» бонапартистов. Так было, к примеру, в Испании (до всеобщего революционного движения против французов), которая под обаянием революционных идей Франции пожертвовала даже своей королевской династией – Бурбонами, в пользу Жозефа Бонапарта. Таким был социализм в начале ХХ века, который обеспечивал Красной Армии моральную поддержку во всех обществах российской империи и, по сути, открывал двери триумфальному шествию Советской власти.
Таким было и триумфальное шествие капитализма по социалистическому лагерю, которое под названием «приватизации и демократизации» динамично меняло сознание половины мира. В общем исторических примеров много.
Иными словами – мировой идеологический тренд способен создать такую благоприятную среду для внешнего вмешательства, что люди способны с цветами встречать оккупантов. Ценностный фронт – важнейший в «третьей корзине», потому что он может вносить фундаментальные и кардинальные изменения в сознания обществ.
Можно бесконечно описывать ценностные противостояния вроде «за Америку, значит против России» и т.д. Здесь хотелось бы отметить один особенный тренд.
На сегодняшний день одним из самых актуальнейших трендов мирового масштаба является ценностное противостояние «ислам против остального мира» (именно в этой интерпретации, а не «против Запада»). Причем глубинную природу этого ценностного конфликта мало кто понимает вне чисто религиозного догматического контекста.
Этот тренд значительно усилился с глобальным кризисом и продолжает крепнуть. При этом удивительно то, что консервативный ислам активно занимает левые прогрессистские позиции, получая под свои знамена ежедневно десятки и тысячи сторонников.
Клерикалы объясняют это исключительно универсализмом и привлекательностью самой религии, однако истинная линия фронта проходит не там. Скорее всего, по мнению автора этих строк, считающего, что исламская социальная доктрина была первым социализмом, рост популярности ислама связано именно с этим. То есть в исламе для человека именно антикапиталистический срез обладает особой привлекательностью, усиленной многократно глобальным кризисом либерализма. Фактически исламская пропаганда предлагает человеку картину «посткапиталистического мира», а удивительным является то, что Запад еще не смог родить посткапиталистическую массовую идею на научной или религиозной основе. Получается, что ценностный социальный ислам сегодня стоит впереди идеологического поля почти так, как в свое время стоял бонапартизм, «призрак коммунизма» или оттепель 60-х.
Еще недавно, до кризиса, постиндустриальный мир трактовали ошибочно в виде информационного общества (точнее исключительно в виде него). На этом зиждились, в частности, скандинавские социалистические идеи. Однако общий кризис капитализма, который еще никто не отменял, быстро внес свои коррективы. Не надо забывать, что информационное общество возникло на «излишках капитализма» – в основе его лежал такой же финансовый пузырь завышенных цен на информационные технологии, как и в ценах на недвижимость. Не умаляя достоинств информационного общества, стоит отметить, что оно является лишь инфраструктурной базой новых общественных отношений, но никак их не заменяет, как полагают, например, финны.
Таким образом, уделяя много внимания SP американского образца не надо выпускать из внимания другие тенденции, влияющие на изменение общественного сознания в нашей стране. Тем более, что на повестке дня поиск именно посткризисного мира. Абстрактные формы баланса между государственным регулированием и свободой рынка (которые у нас сегодня выдаются за прорывное видение будущего посткризисного Казахстана) – это давно обветшалые идеи этатизма и кейнсианства, популярные в начале и середине ХХ века.
Небольшая реплика по поводу второго источника успеха SP. Стоит обратить внимание на то, что в таком ракурсе Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан обладают бОльшими потенциальными сетями влияния, чем мы, обладая гастарбайтерской и миграционной массой в СНГ. Несмотря на то, что «изобилие человеческого материала» дает безработица – это не должно быть однобоко трактуемым фактором уязвимости наших стран-соседей. Это, при умном обращении, гигантская сеть влияния, которую Узбекистан использует (это известно), а Таджикистан вообще сделал своей национальной доктриной («главное богатство страны – это наши рабочие руки»).
При этом необходимо отметить, что не всегда экспорт человеческих ресурсов «бедный». К примеру, присутствие Турции в Казахстане – это многоуровневый экономический, социальный и политический срез, который демонстрирует, что за 20 лет нашей Независимости Турция реализовала свою программу soft power по Казахстану.
Мы говорили об основных источниках успеха, а если говорить о необходимо структурном условии функционирования soft power, то – это сети, сети и еще раз сети. Сети информационные и организационные и вообще все прочие вербальные. Например, сеть личных знакомств и связей, которые репродуцируются в новое качество политического влияния. Одно НПО не играет роли и не имеет значения – нужна сеть. Поэтому в погоне за количественным показателем и у непосвященного возникает кажущийся эффект «сорения деньгами», потому что неважно какие, важно, что много.
Таким образом, окончательная формула успеха soft power состоит из четырех звеньев:
- изобилие денег – экономический потенциал страны, способный выдержать пропорцию 80\20. и финансирование долговременных программ;
- изобилие людей – это необязательно китайский или русский фактор больших наций, скорее здесь подразумевается умение использовать диаспоры и их распространенность. Достаточно вспомнить малые нации – евреев и армян;
- передовая идеология, философия.
- изобилие в стране влияния разннообразных сетей – это собственно ключевой фактор успеха.
- Мы – объект воздействия чужой стороны.
Причем в подходах к изучению SP существует два ракурса: «возможность экспорта» («нападающие») и «национальная безопасность» («защищающиеся»).
В данном разделе лишь несколько реплик, поскольку изучение внутриполитического контекста SP – это не вопрос данного формата. Вот краткое эмоциональное описание SP Сергея Хелемендика, распространенное в Интернете:
«Это не мягкая сила. И тем более не мягкая власть. Это американская технология взятия власти в чужой стране и ее передачи нужным в данный момент людям. Технология переворотов.Технология ненасильственная — и это главное, что отличает Soft Power от революции со штурмом Зимнего дворца.
Технология Soft Power не берет власть, чтобы ее удерживать или, не дай бог, что-то реформировать. Хотя слово «реформа» многие годы было священным заклинанием во всех посткоммунистических странах, Россию не исключая.
Soft Power используется для того, чтобы, взяв власть ненадолго, забрать собственность надолго, а еще лучше навсегда. Слово «ограбить» звучит неделикатно, но точно описывает суть процесса».
Это описание еще раз подтверждает сказанное в первом разделе. Стоит добавить из личного опыта автора этих строк, что во время наблюдения за акаевским референдумом в Кыргызстане в 2003-м году, был сформулирован для этой страны так называемый «фактор 10 млн. долларов наличными». Этот фактор был интуитивно выведен из наблюдения за работой НПО в соседней стране и отвечает на один вопрос: «сколько нужно свободных средств в этой стране, чтобы сместить политический режим?».
Это небольшие деньги, поскольку Кыргызстан, у нас видимо больше, но это тоже вполне исчисляемая сумма. История продемонстрировала, что в Кыргызстане именно так и произошло – сработали свободно циркулирующие по стране деньги, и никакой по-военному организованный информационно-политический холдинг А.Тойгонбаева не смог им противостоять.
В нашей стране принцип SP недавно четко сформулирован лидером партии «Алга» В.Козловым. В неточной передаче он звучит так: «1 человек на улицах – мало, 100 – не решают ничего, 10 000 могут сместить министра или премьера, 100 000 – поменять политический строй». Ошибка таких рассуждений только в излишнем эволюционизме – что количество протестующих на улицах с кризисом неизбежно будет расти. Пока это не факт.
Во-первых, и Майдан, и Бишкек утверждают, что самое главное – это не просто выйти. Самое главное – это стоять долго и до результата. Во-вторых, Кишинев демонстрирует, что без легитимизации протестной волны со стороны Запада произойдет не более чем «бунт по-молдавански» – власть захватили, но в руки почему-то не взяли. Все решил один акт – Воронов быстро отреагировал и назначил пересчет голосов, что отняло у повстанцев «логику Майдана» и поддержку Запада.
Это говорит о некой одноплановости SP, как технологии – она может быть достаточно зыбкой при вариативности сценариев. Однако это лишь подтверждает, что страшен не столько американский SP, сколько если вдруг какая другая страна совместит свой собственный исторический опыт и технологии Вашингтона, то такая атака может быть более вариативной и результативной.
В истории противостояния SP в Казахстане центральную роль играет принятие Закона о социальном заказе, который кардинально изменил ситуацию с финансированием НПО. Закон был принят вопреки Конституции, прямо запрещающей государству вмешиваться в деятельность НПО, в том числе и финансированием. Однако он позволил создать в стране многочисленные GONGO (Governmentally Organized Non Governmental Organizations) и растворить влияние американских НПО в принципиальной пропорции.
Однако в контексте данной работы необходимо отметить один немаловажный аспект: сегодня практически только Министерство культуры и информации обладает наиболее внятным бюджетом финансирования по Закону о социальном заказе. Таким бюджетом, в частности, не обладает Министерство иностранных дел, которое тоже является политическим ведомством. В контексте того, что мы отмечали в предыдущем разделе, SP представляет собой двукрылую систему (симметричная поддержка того, что в стране из-за рубежа), то это является системным просчетом. Это одна из системных причин, почему внешнее ведомство не занимается организацией казахстанского SP за рубежом, а внутреннему противостоит реактивно и в пожарном порядке.
Вообще, существующая система противостояния зарубежному SP (если ее вообще можно назвать системой) является скорее удачливой, нежели эффективной. А возможно мы уже прозевали ряд кампаний, где мы являемся субъектом воздействия сами того не замечая.
Вот простая иллюстрация. Наши страны-соседи чутко следят за проникновением чужой пропаганды в свои пределы. Мы – нет. На своем опыте автор знает, как узбеки и китайцы категорически запрещают пересечение телевизионного сигнала из Казахстана их границ. У нас спокойно вещает узбекское телевидение на юге Казахстана, более того, бьет по популярности отечественные каналы. О противостоянии российскому информационному пространству вообще много сказано, а рецептов пока не существует.
- Мы – субъект воздействия на чужую сторону.
Исходя из критериев успешности технологий SP, описанных выше, можно говорить, что для Казахстана золотой век возможностей SP пропущен. Кризис существенно изменил финансовую картину. Изобилие денег, как необходимый фактор, поставлено под угрозу внешней задолженностью в 118 млрд. долл., эффект от которой еще будет нарастать в ближайшее время. Такая сумма неизбежно будет обезвоживать внутреннее финансовое поле. Это значительно сократит конкурентность Казахстана по отношению к крупным субъектам, на которых мы хотим… нет, скорее нам жизненно необходимо воздействовать. Возможно, мы сохранили свой потенциал по отношению к малым и средним субъектам, в частности к соседям.
Однако существует ряд вопросов по поводу наших существующих сетей влияния. Как происходит управление грузинскими и московскими активами БТА банка? Вопрос – утерян ли аблязовский потенциал за рубежом? Что происходит с бегством капитала за границу? Вернее, де-факто это не бегство капитала – он там и был, скорее это бегство бенефициариев, из-за которого контроль над финансовыми средствами теряется. Возможно, безвозвратно.
Что есть или было в потенциале Казахстана в региональном срезе? Попробуем «проинвентаризировать» тему «страна-пример, носитель передовой философии или модели развития».
- Более высокий уровень жизни по сравнению с соседями. Наличие зажиточного слоя позволяло осуществлять экспорт «образа жизни», что вызывало не только зависть, но и подражательство у соседних народов. Однако он сегодня значительно подорван глобальной девальвацией культа потребления, скандалами в казахстанской элите и соответственно ослаблением легитимности «богатого образа казаха»;
- Высококонкурентый ВВП в Центральной Азии и величина экономики. Сохраняется, но опять же – соседи в своей пропаганде умело подрывают его значимость тем, что он практически весь принадлежит иностранцам. Внутриполитическая среда, раскол элит только поддерживает эту информацию;
- Имидж «прогрессистов» – практически утерян, поскольку режим перешел на консервативные рельсы;
- В региональном плане мы так и не смогли предложить общую философию, поскольку всегда продвигали философию собственного лидерства, и чтобы его ежедневно доказывать неизбежно скатывались на уничижение стран-соседей – это естественно в такой риторике, ведь лидерство доказывается «на фоне кого-то или чего-то».
Да и вообще тема безусловного лидерства практически из нас сделала региональных «мини США», которых не любит никто. К сожалению, мы «мини США» по нелюбви, но не по силе управления общественным сознанием обществ соседних стран.
Существует еще один показатель, демонстрирующий, что Казахстан находится на излете потенциала SP, так его и не начав. Это царствующая в стране примитивная оценка нематериальных активов – внутри страны интеллект и идеи не считаются капиталом, соответственно не рематериализуются вовне.
В ситуации, когда по оценке всех экспертов сегодня «миром правят идеи» – это очень серьезный базисный провал, фактическое лишение себя «точек роста». Даже в эпоху «тучных лет изобилия денег» в Казахстане вложения в интеллект происходили случайно и внесистемно, а в этом поле это равносильно полному отсутствию эффективности, поскольку если в бизнесе золотая пропорция 80/20, то в интеллектуальной сфере куда сложнее – 98/2. Но при этом это «2» в состоянии дать эффект мощнейшего прорыва. Это называется «умением терять деньги там, где надо, а не там, где не надо».
У нас вообще иногда складывается парадоксальная ситуация, когда непоследовательным реформизмом и креативом страдают ведомства и правительства, которые априори должны быть носителями консерватизма, а творческие и креативные группы полностью сосредоточены на приспособленчестве и тупом добывании денег.
Национальная «группа успеха» – самородки и селфмэйды – всегда финансировалось по реактивному принципу жатвы готовых плодов «достиг – получи, не достиг – подождем». При этом еще и обворуют продюсера или тренера, который этот успех готовил на собственном энтузиазме. Финансирование только тех, кто уже де факто чего-то добился, выбрасывая из внимания тех, кто пытается чего-то добиться, непростительно для государства с серьезными амбициями.
В качестве вывода попробуем констатировать, что умение пользоваться SP – это определенный квалифицированный уровень развития самосознания нации, который нами, к сожалению, пока не достигнут. Тем не менее, начинать никогда не поздно, пусть даже и в условиях глобального кризиса. Может статься и так, что именно этот кризис и станет благоприятной средой для наших планов.
Отсюда вопрос: а какие «маршруты» вообще могут быть у казахстанского soft power, в частности в региональном срезе? Попытаемся их обрисовать в режиме поиска и рассуждений.
Можем ли мы обрести и предложить вовне некую единую историческую платформу? Подразумевается не единая история (СССР), а единый геополитический (возможно постколониальный тренд).
Вряд ли. В-первых, место лидеров советского постколониализма пока занято Украиной, Грузией, Узбекистаном и Азербайджаном. Во-вторых, в своей мультивекторности мы сознательно уходим и ушли от любого геополитического историзма – пантюркизма, панисламизма, панномадизма и прочая, предпочитая универсалистские тона. Таким образом, мы получили необходимый себе баланс международной безопасности, но утеряли способность позиционироваться на определенной историко-геополитической платформе. Пока это данность.
Надо признать также, что попытка создать президенту имидж лидера посткризисного передела финансового мира очевидно не удалась. Во-первых, его выступления были сознательно отодвинуты на периферию информационного пространства, а во-вторых, за ними упорно формируют образ вторичности мнений от «стоящих за спиной». В любом случае итог очевиден: мы определенно получили некую «добавленную стоимость», но саму стоимость упустили.
Необходимо отметить главное, что изменилось с кризисом в казахстанском самосознании – это разрушение примитивного эволюционизма – «мы впереди в ЦА и так будет всегда». Пришло понимание, что история продолжается, никакая ситуация не является законсервированной, и все может измениться одномоментно или в течение короткого периода.
Рассмотрим иные маршруты реализации Казахстаном собственного soft power за рубежом, более приблизив их к полю практики. Здесь мы получим ряд позитивных исходных данных следующего плана:
- Казахстан всегда являлся неким «перевалочным культурным центром» для центральноазиатских творческих и культурных деятелей и богемы. К сожалению, этот потенциал сокращается, поскольку авторитаризм наносит печать на все, в том числе и на свободу самовыражения. Изменение рынка свободных средств и рост авторитаризма уменьшили значимость Казахстана для региона. Искусство принизилось до уровня фольклоризации. Однако этот потенциал еще остается, поскольку Алма-Ата продолжает оставаться раскрученным трамплином для старта в Москву. Но самое главное – свободных денег в Казахстане продолжает быть больше, чем у соседей. Проблема еще в том, что мы хватаем богему на уровне провинция (страна-сосед) – Алма-Ата, Астана – отъезд, теряя после отъезда к ним интерес. А это именно тот потенциал, с которым следует работать и в дальнейшем.
- «Группа успеха в мире» – насколько она контролируема и продвигаема государством? Определенно то, что стройной политики по данному вопросу не существует.
- «Группа отношений» Казахстана в СНГ существует – это порядка 2-3 млн живших и работавших в Казахстане. Речь идет от тех, кто в советское время «формировал карьерный рост в КазССР», как это было принято в брежневские времена. «Группа отношений» представляет собой ощутимый слой по крайней мере в России, обеих ее столицах.
- Учащиеся за рубежом, в т.ч. Болашак – существует ли такая же системная объединительная практика в других странах, какой в советское время было землячество? Собрания студентов существуют на постоянной основе или «от случая к случаю»? Это вопрос не только представленности казахов за рубежом, но и оценки сетевого потенциала сегодняшних студентов. Сегодня стереотипное понимание студенчества в дальнем зарубежье, к сожалению, такое – не мы влияем через них, а заграница влияет на наших ребят более эффективно и в своих интересах.
- Группа инвестирующих за рубеж – а есть ли у нас комплексное понимание того, какие предприниматели и где за рубежом размещают свои капиталы и притом успешно? Вот такое сравнение: когда приезжает президент Кореи в Казахстан, корейские бизнесмены вывешивают огромные плакаты «мы приветствуем Вас, г-н Президент». А наши? Значит ли это, что весь бизнес существует за рубежом незаконно, поэтому и боится лишний раз выпячивать себя? А может это вопрос просто культуры и организации, и если все правильно организовать, то все будет – и вывески и агентура влияния. Но самое важное не это – казахстанские инвесторы за рубежом не являются ни группой, ни ассоциацией, ни даже координационным центром, поэтому их потенциал сегодня очень низок для использования, но необходим.
- Всемирный курултай казахов – это декорация или сетевая организация? Она в пассиве или в активе? Скорее всего, с курултаем как обычно – акцент сделан на имиджевый результат съездов вместо того, чтобы делать на ежедневную рутину строительства сетей влияния.
Далее более частные направления и вопросы:
- Известно, что в Кыргызстане существовала фракция за конфедерацию с Казахстаном. Кто проследил их судьбу? Кто ими занимался? В каком состоянии этот сегмент общественной мысли Кыргызстана? Мы хотим экстрадировать Алиева и Аблязова, а сами с позиции силы держим у себя Тойгонбаева – это верно или адекватно? Ведь именно по его линии формировалась антиказахская линия в Кыргызстане.
- И вообще – кто-нибудь у нас занимается вторым эшелоном элиты в соседних странах? А ведь именно он является типичным объектом воздействия soft power.
- Почему отечественный бизнес не может вырваться из понятия «узость отечественного рынка»? Почему не применяются субимпериалистические стратегии по отношению не только к соседям, но и другим странам третьего мира, которые слабее нас, но могли бы компенсировать наше развитие в узости рынка? Ведь это очевидно: сети тихо-тихо и успешно создают именно малые и средние субъекты, мелкий бизнес и НПО. А они не обладают поддержкой государства, прежде всего в лице МИД. Причина – МИД не способен организовать контрмеры против зажима казахстанских инвестиций за рубежом или меры по прямому лоббированию отечественного бизнеса на иностранных рынках. МИД просто не замечает малый бизнес, сконцентрировавшись на обслуживании крупного капитала казахстанской элиты. В результате сети теряются и не создаются.
- Мы упускаем и не раскручиваем конкретно комплементарные себе темы, существующие в мире:
- приручение лошади на территории Казахстана;
- происхождение яблок из Казахстана, а следовательно «сада Эдема»;
- теория д-ра Спенсера, согласно которой ДНК европейских народов формировался на территории Южного Казахстана;
- центральноазиатское происхождение японцев;
- никто никогда не пытался ответить на вопрос – откуда на территории Казахстана столько мавзолеев сподвижников Пророка?
- Самый толстый культурный слой в мире – 12 метров. в Южном Казахстане (книга рекордов Гинесса) ( для сравнения в Европе 6 м);
- Тюрки правили древнейшими цивилизациями – Ираном, Индией, Китаем, Египтом.
Эти брендинговые преимущества лишь короткий список из реально существующих, однако они остаются у нас в стране на уровне кухонных околоисторических бесед или нет-нет появляются в прессе. Ясно одно – они не систематизированы, не реализуются в рамках определенных систем и главное – не способствуют целенаправленному продвижению задач внешнеполитического влияния Казахстана. Потому что собственного центра странового брендинга в Казахстане нет.
Итак, мы попытались получить понимание того, что, если смотреть на soft power шире рамок чисто американской технологии, то можно постепенно кристаллизовать понимание создания и продвижения собственного SP. Конечно, высшей квалификацией влияния на сознание других стран является наличие передовой идеологии или философии, которой у нас в руках де факто нет. Однако не стоит оставлять попытки из поиска, история знает много примеров, когда малые и средние страны постепенно превращались с реальных локомотивов истории. В том числе и страны, существовавшие на территории нашей страны.
Изобилие людей – это также не наша специфика, но если рассматривать этот вопрос не в ракурсе количества (китайцы, индийцы, пакистанцы, русские) а качества (евреи, армяне, поляки, венгры), то переименовав этот фактор для себя в качественный человеческий капитал за рубежом, мы можем дать рост и этому фактору успеха (см.выше – различные «группы»).
Но сегодня надо быть более реалистичным и сосредоточиться на двух направлениях – изобилие денег и строительство сетей.
По поводу финансов – уже набила оскомину критика практики размещения платных статей и прямой рекламы в сомнительных таблоидах, причем с политическими целями. Надо четко осознавать, что цель soft power – это изменение сознания общества другой страны, и никак не менее. Поэтому прямолинейные методы имеют нулевой результат по отношению к цели – на чужой территории надо действовать по чужим законам, а не по своим.
Эффективность SP – это морально-психологическое преимущество над субъектом воздействия, обеспеченное людскими, организационными, информационными и финансовыми ресурсами. Это преимущество реализуется именно на территории страны-субъекта воздействия. В этом вся сложность организации собственного soft power для среднесубъектных стран – необходимость «воевать с теми, кто сильнее». Но: именно малая вероятность победы среднего субъекта военно-политическими силами и конкурентностью экономики и делает soft power приоритетным для таких стран как Казахстан.
Приходит в голову цитата (автора не помню): «Когда вы смотрите на карту, то Швейцария – это маленькая страна, но если дело касается идей – то Швейцария – это сверхдержава».
Вопрос – а может четыре вида ресурса может обеспечить наличие одного – современных технологий управления массовым сознанием, например, способные создать «проблему на ровном месте»? Вряд ли. Без основных компонентов технологии могут сработать лишь внесистемно, т.е. в зависимости от личных качеств лидеров и агентуры, случайного стечения обстоятельств, в конце концов, удачи.
Финансовая тема – это в первую очередь готовность квалифицированно тратить средства на новое направление и правильная, современная система показателей эффективности их применения – по достижению целей и по балансу между ними (теория сбалансированных показателей).
Здесь необходимо учесть то, что не стоит буквалистски подходить к оценке деятельности посольств на этом направлении. Нельзя забывать, что основная их задача – это протокольная представленность страны в другой стране. Невозможно перевести посольство полностью на проектные рельсы и оценивать их работу с проектной же точки зрения. Здесь необходимо выстроить чисто дипломатическую шкалу эффективности, основанную на дипломатических же показателях. В любом случае активного, эффективного и профессионального посла всегда видно на фоне «отбывающих номер».
Иными словами, проектировка программ soft power должна в финансовом смысле происходить вне классических затрат МИДа.
Далее. Мы вплотную подошли к основному вопросу – правильной последовательности создания сетей за рубежом. В организационном плане необходимы, прежде всего, центральные звенья, которые занялись бы организацией сетей по стратегически важным направлениям.
В мире существуют аналоги таких центральных организаций – это Британский совет, Alliance Francaise, Русский дом, Сохнут и так далее. Подразумеваются именно государственно созданные организации, здесь речь пока не идет о таких структурах как Фонд Сороса, фонд развития демократии и т.д. Пока принципиально не обсуждается юридический статус, главное, что это инициатива центральной власти.
Предполагается трехзвенная структура (триада):
- Международное Агентство казахстанской помощи. О таком Агентстве указывалось в Концепции внешней политики РК. Задача Агентства – прямая благотворительность. Но она двухуровневая. Первый уровень – это «уровень МЧС», на котором оказывается оперативная, профессиональная помощь. Второй уровень – может быть организован по принципу Корпуса мира, где работают осужденные за случайные преступления граждане страны – своеобразная альтернативная пенитенциарная система. Это позволит Агентству длительно находиться в «сложных точках» – Африка, Афганистан и пр.
- Проект «Имидж Казахия» (условное название центра странового брендинга) – это основное звено, возможно с него придется начинать. Потому что брендинг – это одно из самых развитых направлений по изменению сознания через изменение стереотипных представлений о стране. Основная специфика проекта – креативная разработка стратегически важных проектов в Центре, организация их из Центра, распределение заказа на исследования общественного мнения за рубежом, финансирование зарубежных НПО, работа с информацией, управление проектом «Бренд Казахстан», управление отдельными проектами. Взаимодействие с МИДом, в частности с Комитетом по международной информации, взаимодействие с отечественным бизнесом в сфере брендинга и зарубежного маркетинга (При необходимости классическая форма организации компаний типа «Бренд Казахстан» есть у автора в докторской диссертации со схемами и прочая).
- Международная сеть «Казахский дом». Речь идет о последовательном открытии в ключевых странах таких Домов – они становятся организаторами культурных творческих и образовательных сетей. Может статься, что культурный обмен со страной пребывания не настолько велик, чтобы дотянуть до необходимости Дома, тогда он может приобрести гротескные формы. Поэтому открытие в той или иной стране Дома – будет свидетельствовать о стратегической важности для Казахстана. Важно: Казахский Дом должен быть так же огражден от формального влияния посольства, как деятельность НПО от Конституции. Не нужно его сходу публично превращать в Дом разведки.
Две последние структуры подчеркнуто «энпэошные» – это крайне важно в восприятии зарубежных стран, общество которых крайне щепетильно к отношениям государства и частного сектора.
Далее разрабатываются страновые стратегии строительства сетей по каждой отдельной стране и по группам стран.
Это принципиальная организационная схема, звенья которой потребуют дополнительной проработки и дополнены тактиками и стратегемами. В целом такая триада – это классическая структура, давно функционирующая у многих стран. Но – у больших стран они гораздо вариативнее, а у средних и малых субъектов внешней политики могут отсутствовать вообще. В то же время конец прошлого века и по сей день – это всплеск странового брендинга, как маркетинга страны. Само по себе это тоже важное направление. Здесь мы рассматривали его не самостоятельно, а в контексте возможности и необходимости создания казахстанского soft power. Необязательно целиком начинать создавать всю схему, можно и рассегментировать ее на этапы, подразумевая, что конечным результатом будет примерно такая организация.
Нельзя в заключении не упомянуть и ряд отдельных проектов, на которых нужно сосредоточить свое внимание уже в ближайшем будущем.
Первое – провести мониторинг деятельности таких компаний как ТРК «Мир» и «Каспионет». Эти структуры очевидно «замерзли» в некой недорешенной стадии. Возможно из следует довести до ума. Например, энергичнее раскрутить Каспионет, но отмыть его от универсалистского брендинга, а придать ему ощутимый конкретизированный имидж. Ведь все знают, что успех катарской Аль-Джазиры во многом зависел от позиционирования в качестве «арабского CNN».
Второе – создать творческий проект «классической разведки» под условным слоганом «хватит смотреть на мир глазами Сенкевича». Проект изначально организовывается в форме научно-популярной телеэкспедиции. Например, под названием «Отрытый взгляд на мир». Формы известны еще со времен экспедиций Марко Поло, Шокана Валиханова, экспедиций Тигрис и Кон-Тики. Главная его задача – предоставить казахстанскому обществу, как широкому кругу, так и экспертным кругам, информацию из первых источников. Как известно, информационный глобализм окончательно свел аналитику к работе с интерпретациями в интернете, а это создает уже заранее искаженную картину мира и отдельных явлений. Вообще, такой проект может сыграть роль катализатора и аккумулирования идей для реализации схемы «триады».
Вообще, необходимо отметить самое главное в подходе к организации soft power: Прежде всего, это самовоспроизводящийся механизм, если система изначально правильно создана, то она начинает самовоспроизводить себя. По сути, мы должны организовать только «системы запуска» и обеспечить постоянное финансирование. В дальнейшем ставка делается на самостоятельный креатив и творческий потенциал людей, которых мы смогли заинтересовать и заставить работать на свои идеи. И всегда надо помнить: задачи soft power – это не менее чем умение менять общественное сознание целой страны.
* * * * *
(2011г.)
Основные направления развития
Казахстана в поствыборный период 2011 года (2011г.)
1.
Завершив важную политическую кампанию, какой являлись досрочные президентские выборы, необходимо незамедлительно приступить к определению основного политического содержания поствыборного развития Казахстана.
Об этом свидетельствуют тревожные сигналы, демонстрирующие, что в обществе сложился комплекс проблем, носящих явные признаки накопленной проблематики, способной отрицательно влиять на основные парадигмы стабильного и поступательного развития Казахстана. Более того – повлечь за собой разрушительные тенденции.
Ни одно общество не способно развиваться без недостатков, ошибок и сопутствующих проблем развития. Периодически они находят свое разрешение, периодически же заходят во временные тупики и требуют активного пересмотра стратегий их решений. Однако, подвергая анализу комплекс проблем казахстанского общества сегодняшнего дня, можно резюмировать то, что, некоторые «тупики» привели к многоплановым кризисным явлениям, приобретшим характер системности, а следовательно, обладающим сильным негативным влиянием на все стороны политэкономической жизни страны.
Сложившаяся внутриполитическая ситуация, усиленная фоном международных событий, с высокой долей очевидности говорит о том, что главной характеристикой этого содержания должны стать действия, носящие серьёзный, а подчас и кардинальный характер преобразований в стране.
2.
Международная проблематика
Волна революций на Ближнем и Среднем Востоке, вне всякого сомнения, встроена в контекст мирового кризиса. Эксперты по-разному трактуют причины возникновения новой волны нестабильности. Однако ими безусловно принята точка зрения, что конфликт в Тунисе и Египте не являлся охлократической вспышкой, а движущими силами революций оказались образованные слои общества «нового поколения». Основными причинами принято считать высокий уровень безработицы, стагнацию политических институтов, приведшую к отсутствию «социальных лифтов» для нового поколения молодежи. Т.е. в большей степени причинами сугубо внутриполитического характера.
Несомненно, социальные факторы сыграли свою роль, но глобальный кризис позволяет рассмотреть базовые причины революций и с другого ракурса. И главным вопросом для Казахстана является: почему, несмотря на годы стабильного развития под руководством одной политической фигуры, которой в течение многих лет без сомнений отдавались политические предпочтения нации, революции имели явную анти-лидерскую направленность? Именно этот контекст и актуализирует «арабскую волну» для нашей страны.
Относительно высокий образовательный уровень протестности в указанных странах позволяет выделить международный контекст причин, приведших к свержению многолетних политических режимов в странах Ближнего и Среднего Востока. Исследование глобальных сетевых ресурсов (Твиттер, Фейсбук и прочих), которые стали движущими инструментами революций, показало, что там имеет место такая классическая причина кризисов, как реагирование на мировое распределение труда и на достижения развития НТР (научно-технической революции). Однако в условиях формирования нового миропорядка эта причина приобрела новое звучание.
Развитие последствий глобального кризиса, (а, возможно, и развитие его последующих волн) позволяет сделать следующие выводы:
- Высокая интегрированность Казахстана в мировую экономику, а следовательно, в глобальные и региональные процессы, говорят о том, что фон международных событий будет играть все более важную роль в определении векторов внутриполитического развития нации;
- То, что события в арабских странах привели к обострению ситуации в других государствах, даже географически отдаленных от Северной Африки, свидетельствует о росте вариативности этого влияния на Казахстан. Т.е. разнообразие причин протестов будет поднимать на поверхность весь спектр социально-экономических достижений нашей страны и подвергать их проверке на устойчивость;
- В краткосрочный период схожесть показателей развития стран «революционного пояса» и их политических режимов с Казахстаном, с одной стороны, станет непременным фактором прямых стремлений ослабить политический строй как изнутри, так и извне; но с другой стороны, позволит, благодаря своевременному и квалифицированному анализу и изучению, сыграть на опережение и упредить негативные тренды;
- Дополнительным фактором международного влияния может стать резкая дестабилизация ситуации в одной из стран-соседей по Центральной Азии, помимо Кыргызстана.
Необходимо отметить и главный аспект международного влияния – это прямое апеллирование к основной характеристике политического строя современного Казахстана – к долговременному пребыванию Первого президента у власти. Проведение прямых аналогий с падающими режимами на Востоке, настоятельно выводит на первый план необходимость выстраивания новой доктринальной аргументации на принципиально новом уровне. Для этого необходимо изменение ракурса видения не только базовых подходов к новым критериям устойчивости политического строя, но и к оценке инструментария, способного эти критерии претворить в жизнь.
Рост влияния международных трендов на внутриполитическое развитие Казахстана говорит, прежде всего, о том, что на первый план выходит задача выработки для себя новых критериев устойчивости политического строя. Более того, выносит эту задачу на уровень неизбежной необходимости.
Следует учитывать, что сегодня международными социальными сетями полностью разрушена монополия отечественных экспертных и пропагандистских сообществ на оценку ситуации, сравнительный анализ и на формирование отношения социума к политическому строю государства.
То же самое можно и говорить об уровне образованности населения Казахстана, которое помимо достижений в годы Независимости, продолжает нести в себе наследие советского образования, а в последнее время еще и значительно подкрепилось выпускниками западной высшей школы.
Вообще, говоря об экспертно-аналитических центрах страны, мы вынуждены констатировать их хроническое отставание от реалий жизни. Масса исследовательских социально-политических структур уже несколько лет занята лишь реагированием на сложившуюся ситуацию и комментариями, которые посвящены лишь констатацией сложившейся ситуации. Экспертными кругами практически полностью утрачена способность прогнозирования и, как следствие страдают их основные потребители – субъекты публичной политики и госаппарат. Сегодня они не в состоянии конкурировать с внешней волной аналитики, трактовок и интерпретаций политических смыслов.
3.
Внутриполитические задачи.
Состояние основных субъектов политического поля.
Кризис неконкурентоспособности публичных политических институтов стал причиной сегодняшней ситуации, когда весь их комплекс привел к необходимости принятия Лидером нации «соломонова решения» о досрочных выборах президента РК.
Этот этап закончился катастрофическим обрушением данной прослойки в период кризиса на рубеже 2007-2008 гг. Одной из основных причин этого обрушения является зависимость доходов этой категории среднего класса от государственного заказа, прослойки корпоративного малого и среднего бизнеса и от перераспределения сверхприбылей от крупного бизнеса и коррупционных доходов.
Прежде чем приступить к характеристике основного содержания предстоящего периода в макро-категориях, необходимо отметить роль бюрократического аппарата в Казахстане сегодняшнего дня. К сожалению, многие эксперты расценивают бюрократизацию исключительно через призму канцелярской волокиты, мелкой коррупции, саботирования сути позитивных преобразований, непотизма и т.д. Главное качество сегодняшней бюрократии Казахстана является то, что она по всей вертикали приобрела все признаки слоя с самостоятельными интересами. Причем эти интересы совершенно не имеют созвучия с идеологией правящей группы, а тем более с интересами общества.
В первую очередь это иллюстрируется тем, что за период кризиса бюрократическая система провела собственную масштабную программу перераспределения собственности в стране. Силовые, административные, судебные органы в союзе с банками, формируя временные или постоянные группы по интересам, осуществили и продолжают осуществлять молниеносные программы рейдерства в среде мало-мальски успешного бизнеса. Основным отличием от предыдущих периодов является то, что для осуществления этих операций таким группам не обязательна поддержка «наверху» со стороны олигархий или влиятельных чиновников. Для этого у них достаточно полномочий, информации и силового ресурса.
Сегодня разрушена ранее безупречно действовавшая коррупционная система, когда взятка должна компенсировать неповоротливость и затянутость законных процедур. Складывается ситуация, когда деньги вымогаются обязательно, а преступные обязательства не осуществляются. В таких ситуациях «человек с улицы» остается и без законной справедливости, и без альтернативной. Вовсю практикуется сведение счетов с партнерами путем террора со стороны правоохранительных органов, которые в случае наличия у ответчика денег, действуют крайне энергично в расчете на вымогание у него этих средств.
Моратории на проверки привели к тому, что активность бюрократического аппарата сместилась в сторону окончательного «доуничтожения» предприятий, оказавшихся под ударом кризиса. Как только происходит задержка тех или иных платежей, направляется необоснованная жалоба или заявление в соответствующие инстанции, и к предпринимателю «на законных основаниях» приходят судебные исполнители, налоговики, финансовая полиция, прокуратура и прочая – те, которые были формально отстранены от вмешательства в дела бизнеса мораториями на проверки.
Поведенческий стандарт этих представителей власти – вне всякого гражданского понимания: абсолютно не скрывается корыстная модель поведения. Для любого бизнеса это означает постепенную гибель и маргинализацию.
Бюрократизация коснулась не только госаппарата. Стиль бюрократизированного поведения вовсю распространился на банки, кредитные организации и госструктуры, занимающиеся кредитованием предпринимателей «живыми деньгами» (наподобие «Казагро»). Целью большинства схем стал непременный вывод денег и последующее их расхищение без всякого стремления продолжать, поддерживать или развивать бизнес. Это привело к активизации звена средних банковских и финансовых служащих, которые обросли сетью «псевдо-финансовых консультантов» (а на деле посредников в краже средств), оценочных компаний, «своих людей» в БТИ, ЦОНах, среди судебных работников и исполнителей, налоговиков – всех персоналий, обеспечивающих получение кредитных ресурсов.
Банки фактически организовали для заемщиков «кредитные капканы», которые характеризуются тем, что проводимые реструктуризации долгов на деле означают перераспределение долга в более короткие сроки, что приводит к росту ежемесячных отчислений в размерах, доступных разве что для уровня рентабельности наркоторговли. Руководство банков де-факто не способно справиться с организацией схем вывода денежных средств «средним звеном», что минимум через год приведет к необходимости масштабного уголовного преследования тысяч людей и утере миллиардов тенге.
Самым катастрофическим последствием этой волны бюрократизации стал новый режим накоплений, который устремлен на массовый вывод средств из экономики, нежелание их реинвестировать, поскольку любое ведение бизнеса непременно столкнется с необходимостью противостояния вышеописанным «временным рейдерским группам». А также это обусловлено отсутствием понятия безопасности инвестиции в стране.
Необходимо добавить, что процесс деклассирования коснулся и опорного звена власти – среднего исполнительного звена государственных структур. Большинство из них представляет собой самую продвинутую страту общества, которая в свое время скрупулезно создавала свою принадлежность к среднему классу. В то же время они не являются субъектами, оторванными от общества – у всех есть семьи, инициатива которых пострадала от вышеописанных тенденций. Так или иначе, они оказались причастными к разрушению благополучия семей – либо через ипотечные займы, потребительские кредиты или частное предпринимательство близких родственников.
Все эти тенденции создают комплексное видение самой активной массовой части населения Казахстана, как масштабного слоя, оказавшегося в состоянии «перманентной задолженности». А это фактор является крайне разрушительным для психики, в особенности, если они не видят перспектив выхода из сложившейся ситуации. Примитивные объяснения на уровне «вы сами виноваты, не стоило лезть в кабалу», не удовлетворяет их сознания, и поэтому оно перемещается в сторону изучения всех системных причин собственного кризиса, а в итоге не к социальной, а уже политической протестности.
Таким образом, укрепление государственной вертикали, наделение ее существенными регулирующими полномочиями, по сути, в период кризиса привело к расцвету «негативной прибавочной стоимости» этого процесса. Понятие «государственная служба – лучший бизнес» привело к массовому и уродливому использованию административной силы в целях личного обогащения широчайших слоев общества, фактическому крушению позитивного имиджа государственной вертикали, как созидающего начала. В положении отсутствия какой-либо социально-политической ответственности госаппарата в условиях полной неконкурентности, весь этот негатив уже не непроизвольно, а сознательно экстраполируется на вершину этой вертикали – Президента РК.
Описание процессов бюрократизации не должно ввести в заблуждение, что она определяет основное содержание проблематики периода. К сожалению, она является лишь следствием, но обойти особое рассмотрение этого явления было бы ошибочным.
Основное содержание периода, последующего досрочным президентским выборам, очевидно, будет формироваться на поле общенационального самосознания, то есть сферы внутренней политики. Это поле характеризуется значительным отставанием от остальных – экономики, внешней политики, социальной структуризации. Иными словами, необходимо коренным образом пересмотреть принцип «сначала экономика, а потом политика». Тем более что цикличность кризисов, как главная характеристика капитализма, никогда не позволит решению вопросов экономики находиться в постоянном поступательном развитии. Сегодня социально-политическая ценность экономического или монетарного взгляда на основы благополучия общества «выскочила» из системы ценностей после понимания общественным сознанием всей вариативности проблем капитализма, которые вытащил наружу кризис.
Причины выхода внутриполитического поля на первый план содержатся в двух основных макро-категориях.
Первая причина. С тех пор, как в Стратегии-2030 было осуществлено комплексное целеполагание в политической сфере прошло уже много лет. Фундаментальные программы сегодняшнего дня, какими являются Стратегический план развития до 2020 года и Программа инновационно-индустриального развития Казахстана, содержат лишь несколько чисто политических целевых показателей. И то они даны не через призму управления сферой, а в большей привязке к социально-экономическим показателям. Остальные направления, такие как борьба с коррупцией, реформа правоохранительных органов, законы о демократических процедурах (выборах, общественных объединениях и пр.), напротив, формулировались с точки зрения управления процессами, но не в ракурсе их конечного отражения в общенациональном самосознании.
Общенациональное самосознание состоит из двух основных категорий – общественная мысль и общественное сознание. В нормальной ситуации эти поля находятся в состоянии цикличного взаимовлияния: общественная мысль формирует сознание, которое в свою очередь, рефлексируя, оказывает воздействие на направления развития общественной мысли.
Из этого исходит вторая фундаментальная причина – неконкурентное положение официальной идеологии, ее общественных институтов, привели к значительной уходу реальной политики от публичности, в которой стали доминировать явные признаки абсурда. Это, в свою очередь привело к утрате способности официальной идеологии формировать общенациональное самосознание. Эти же обстоятельства привели к складыванию в стране ситуации, когда Президент был буквально поставлен в ситуацию необходимости принятия «соломонова решения» по досрочным президентским выборам.
Именно политическая сфера начла давать системные сбои, в то время как она является важнейшей частью надстройки, которая аккумулирует в себе все характеристики устойчивости политического строя. Как продемонстрировали арабские события, угрозы сегодняшнего дня исходят именно из проблематики этой сферы, здесь формируются основные движущие силы революции.
Ведь известно, что стабильность ситуации никогда не определяется количеством голосов, которые заявляют, что поддерживают политику правительства и власти в целом. Движущие силы революций никогда не составляли более 5-15 процентов общества, а это значит, что и при 90 процентной поддержке курса успокаиваться нельзя. Об этом свидетельствуют основы истории марксизма и эмпирика текущей международной ситуации.
Сегодня же мы наблюдаем, что Казахстан пришел к этому сложнейшему периоду с политической сферой, находящейся в «развинченном состоянии». Основными признаками этого состояния являются следующие:
Растерянность, в которой приходится действовать партиям в текущей блиц-кампании, привела к тому, что все внутренние противоречия начинают буквально ежедневно вылезать наружу, обнажаться не в самых приглядных формах.
Эти проблемы многоаспектны. В частности, в оппозиции это: личное соперничество; трехлетняя политическая «спячка» (с 2007-го года); ставшее очевидным устаревание фигур лидеров (Байменов, Туякбай, Абдильдин, Калиев); уход ряда фигур «в никуда» (Жандосов, Жукеев, Абдрахманов, Кожахметов, Жаганова); формальная нелегитимность (Козлов), некондиционность и противоречивость политического имиджа (Абилов, Косанов, Касымов); вообще отсутствие лидеров (КНПК) или отсутствие «второго эшелона» публичных политиков (Акжол, КПК).
Партии, осуществлявшие антураж для Нур-Отана, даже несмотря на постоянное стремление присутствовать в информационном пространстве, де-факто превратились в «подпись в коалиции» или в «участника нуротановских мероприятий» (Адилет). Вообще все антуражные партии и движения пустым информационным потоком компенсируют свое полное неумение обеспечивать собственную конкурентность и поднимать конкурентность Нур-Отана.
Согласно совершенно непонятно откуда сложившейся традиции, партии антуража, за редким исключением, «как черт от ладана» бегут от конкурентного соприкосновения с остальными партиями.
Ситуация, приведшая к необходимости проведения досрочных выборов, особенно ярко свидетельствует об обрушении эффективности и стержневого инструмента политического пространства РК – партии Нур-Отан. Без сомнения сегодня мы имеем дело с парламентским кризисом, стопроцентным «держателем акций» которого является Нур-Отан. Одной из ключевых причин произошедшего является то, что партия окончательно перестала рассматривать народ в качестве своей дискуссионной аудитории. В работе с населением Нур-Отан использует совершенно прямолинейные методы безапелляционной пропаганды, причем пропаганды не своих разработок, а идей власти. А на разработку этих идей в большей степени работает правительство и исполнительная власть в целом.
В погоне за привилегиями, единственной аудиторией Нур-Отана стал Президент РК, к которому партийцы апеллируют с целью получения для себя дивидендов. А это является кардинальной подменой понятий политической жизни, в результате которой, Президента де-факто оставили один на один со сложной ситуацией, как отечественной, так и международной.
Для общественного сознания очевидно, что партия Нур-Отан, обладая огромными административными, организационными и медиа ресурсами абсолютно не обладает институтами формирования общественной мысли и научными структурами изучения общественного сознания. Вся работа в этой сфере сведена к полупропагандистским дискуссиям, а иногда к простому и эпизодическому проведению социологических опросов. Оказалось, что такая фундаментальная наука как социология в руках партии власти сведена к примитивным опросам мнений, абсолютно не вникающих в сложность интерпретаций, политических ожиданий, работы с целыми социальными стратами и их интересами.
Главная партия страны сегодня способна самостоятельно придумать инициативу, провести ее, самостоятельно дать на нее позитивную рецензию, самостоятельно осветить ее в прессе в качестве успешной, самостоятельно обсудить в парламенте, организовать постановку положительной реакции псевдо-масс и сделать вывод о том, что эта инициатива поистине обладает общенациональной ценностью. В Нур-Отане этот прецедент наверняка попал в позитивную отчетность, и совершенно некому это оспорить.
Принцип пиар управления привел к настолько высокому уровню абсурдизации ситуации во внутренней политике, что реальная политика прочно отстранилась от этой ситуации и ушла в кулуары. Причем искажение смыслов состоит в том, что невидимое управление из кулуаров стало предметом абсолютной очевидности для широких масс!
Практически на публичном поле остались лишь две фигуры, на которые нагружены все функции работы с национальным самосознанием – это Президент РК и эпизодически Е.Ертысбаев. Нур-Отан в текущую гонку заходит инструментом, от имиджа которого Президенту стоило бы держаться подальше, а это просто вопиющий смысловой парадокс.
В течение очень долгого периода произошло сокрытие несостоятельности таких инструментов, как официальные СМИ. Чрезмерная прямолинейность, отсутствие дискуссионного поиска, новых жанров и диалога с аудиторией стали уже «притчей во языцех» практически всех социальных групп, независимо от их политических предпочтений.
Как известно, в современный период, если мнение или информация не находит выхода в открытые СМИ, то она перекочевывает в другие сферы. Традиционно популярная «казахская» сфера слухов и домыслов быстро перекочевала в сети Интернета.
Кулуарность реальной политики в Казахстане привела к неизбежному – жестокой, разнонаправленной войне компроматов. Первоначально привнесенная извне, она быстро стала привлекательной и внутри страны, что катастрофически сказалось на праве элиты быть носителем морально-этических ценностей нации. Причем вся официальная публичная сфера всячески демонстрировала то, что такая война отсутствует, прикрывая резонанс на самые шумные темы откровенной и второсортной пропагандистской мишурой.
Таким образом, из описания состояния основных публичных политических субъектов вытекают следующие выводы:
- Главой характеристикой завершающегося этапа, который закончится вместе с досрочными выборами, станет общий тренд для всех партий в стране – обрушение традиционных партийных брендов. Естественно, это произойдет в различной степени и при различном же потенциале к реставрации. Тем не менее, устаревание брендов и персоналий налицо, а это говорит о необходимости формирования новых подходов.
- Самым тревожным обстоятельством является то, что в сложившихся условиях ни одна политическая сила не контролирует массовое общественное сознание. Сегодня оно находится в стадии самоорганизации под влиянием социальных сетей. Причем безлидерский характер этой самоорганизации абсолютно не свидетельствует о слабости этого фактора. Главное – общественное сознание, независимо от сложившейся политической системы, самостоятельно вырабатывает собственную систему оценок и ценностей, из которого проистекает система отношения ко всему происходящему.
- Сказывается ли это на состоянии контроля над общественным сознанием Президента, как основной и самостоятельной политической силы казахстанского общества? Безусловно, да, причем негативно, поскольку между обществом и Главой государства неизбежно стоит вся идеологическая система, зацикленная в собственном порочном круге неконкурентности, которая также неизбежно транслирует на него собственное мифотворчество. А это, безусловно, переводит обстоятельства в разряд фундаментальных угроз. Плохая управленческая система в области идеологии обречена на сбои и соответственно забирает у президента формирование политической повестки дня.
- При этом важнейшим обстоятельством является то, что с 2005-го года в стране появилось качественно новое поколение избирателей – студентов, молодых людей – произошло взросление вчерашней молодежи, пополнившей средний класс, самозанятых и бедные слои населения. А методы общения с ними либо безнадежно устарели, либо откровенно подменены кампанейщиной.
- Де-факто общественное сознание в сетях проходит стадию интенсивного самообразования, самоопределения и самоорганизации и никакие точечные меры, способные сохранить эту среду в поле стабильности, не будут иметь долгосрочного эффекта. Только комплекс мер, обладающих фундаментальным характером способен захватить внимание, интерес интернет-сообщества, а соответственно и раскрыть потенциалы партнерства с властью.
4.
Пути выхода из сложившейся ситуации.
Для Казахстана существует три вероятных сценария дальнейшего развития событий:
- Инерционный (консервативный) сценарий.
- Кардинальный (либерализационный) сценарий.
- Адаптационный.
Какой из них выбрать?
Исследование интернет-ресурсов и социальных сетей позволяет говорить о достаточно высоком уровне патриотизма казахстанцев. В обсуждениях проблем явственно присутствуют признаки определенного иммунитета как к западной пропаганде, так и к целевым провокациям «зарубежного бюро оппозиции». Тем не менее, утверждать, что эта среда абсолютно индифферентна к внешнему влиянию, будет чересчур самонадеянным.
Вне всякого сомнения то, что сегодня возникает кардинально иное видение политической роли «людей у компьютеров», во всяком случае зарубежные события продемонстрировали, что это не просто «толпа бездельников». Тем не менее, не стоит переоценивать всеобщность их роли в социальных потрясениях. Ведь эти потрясения происходят все же на реальных улицах. Сети обладают способностью создания первоначальной протестной волны, которая все же, в конце концов, неизбежно попадает в чьи-то реальные организующие руки.
Пока ситуация не упущена, а в электоральный период состояние дел будет стремительно меняться, необходимо воспользоваться платформой патриотизма и иммунитетов, о которых говорилось выше. При этом нужно категорически избегать «воздушных инициатив», наподобие фонтанирующих идей К.Масимова о 16-битном интернете или о переносе туристических потоков арабских стран в Казахстан.
В обществе произошел резкий скачок от традиционного абсентеизма и аномии к массовому усилению радикализма. И это говорит о том, что необходимо устойчивое видение путей, как эта радикальная волна может быть «оседлана» и подвергнута эффективному косвенному управлению. При этом предстоит решительно списать старые «секретные методы, о которых известно всем».
Выше указывалось, что для достижения таких задач необходима подготовка и реализация масштабной и комплексной программы в сфере регулирования общенационального самосознания. И эта программа, безусловно, должна пройти под флагом либерализации политического поля в стране. В то же время в канун юбилея М.Горбачева становится очевидно и то, что либерализация без системного целеполагания может привести и коллапсу государства. Тем не менее, не осуществлять преобразований – еще более гибельный сценарий.
Программа должна обладать четкими параметрами и показателями успешности и эффективности, а также обладать вариативностью сценариев. Ее основными чертами и сценарной последовательностью должны стать следующие этапы и задачи:
- Публичное объявление Президентом нового назревшего этапа преобразований в политической сфере.
Цель: решительное получение инициативы в свои руки (именно Президента, а не политинститутов).
Тональность: Это активное решение, а не под давлением обстоятельств.
Суть заявления: не программа конкретных действий, а поручение политическим институтам осуществления поиска конфигураций либерализации. Нур-Отан сознательно ставится в один ряд со всеми партиями. Не выдвигать инициативы создания центральной диалоговой площадки (типа НКВД) Партия пусть сама находит диалоговые решения. Апелляция и к официальным зарегистрированным партиям и НПО. Решительная фильтрация кампанейских предложений.
Важная подцель: Политическому абсентеизму и аномии, а также радикализму необходимо противопоставить не бурную и массовую политическую активность, а разноплановую «политическую занятость». Народ оказался оторванным от политики «по сути», которая сегодня ограничена узким кругом персон, даже не политических течений.
- Инициатива, направленная на определение modus operandi правительства: Разработка и введение системы общественно-политических показателей в развитии всех сфер развития общества.
Цель: сигнал обществу, что вектор политических преобразований стал определяющим во всех сферах общественной жизни.
Суть системы показателей: Общественно-политические показатели учитывают: на 60 % мнение общества об успешности деятельности ведомства, на 20 % – мнение профессионалов, с учетом мнения самого ведомства, на 20 % – мнение экспертного сообщества. Проводится силами социологических центров.
Тональность: система позволяет избежать бюрократической трактовки успехов, подмены понятий эффективности. Особую силу комплекс имеет в оценке работы судебной и правоохранительной систем, поскольку только такие показатели способны объективно ответить на вопросы типа: искоренена ли коррупция в данной отрасли? Эффективны ли услуги, оказываемые населению, ЦОНы? Какова степень бюрократизации налоговых органов? И так далее. Таким образом в президентской доктрине государственного строительства создается комплекс конкретных политических целевых показателей различных отраслей, чем восполняется программный пробел.
Подцели: развитие исследовательских центров по изучению общественного сознания, открытие их при госорганах, партиях. Создание конкурентной среды в этой сфере – спора за объективность оценки.
- Создание необходимых условий для того, чтобы продолжить логическую институционализацию президента как Лидера Нации. Под ней подразумевается выход Главы государства из партии Нур-Отан и реставрация президентского института в качестве единственного политического авангарда нации.
Цель: Многопартийность парламента в будущем является практически неизбежной необходимостью. В таких условиях позиционирование Президента в одной партии нарушает базовый смысл общенационального лидерства. Таким образом, институт Лидера нации должен пройти свою дальнейшую эволюцию.
Подцель: снижение зависимости института Лидера нации от одной политической группы. Расширение вариативности для Президента в формировании устойчивой политики преемственности в стране.
Тональность: Безусловно, такой шаг может быть предпринят исключительно в том случае, если в стране установится устойчивая, конструктивная во взаимной конкуренции доминанта по меньшей мере двух надежных политических партий. Особо важным моментом является риск обрушения Нур-Отана в случае публичной заявки Президента о выходе из нее. Этого ни в коем случае нельзя допускать, поэтому для партии ниже предлагаются программы укрепления устойчивости. Очень важно, чтобы к моменту такого решения были подготовлены и другие политические партии. А учитывая их сегодняшнее «аховое» положение, кампания по регулированию партийного поля будет проходить в крайне сложных условиях.
Комментарий: Непременным условием для осуществления общенациональной институционализации Лидера нации является закрепления за ним статуса носителя ценностных, гарантом примата морально-этических ценностей в государственном управлении на всех уровнях, о чем обществу дается четкий сигнал. Фактически речь идет об изменении этического фона общества, прежде всего государственного аппарата, без которого не преодолеть явлений «новой бюрократизации», коррупции и паразитического, временщического отношения к государственной службе.
Еще один важнейший комментарий: Создание в стране конкурентного партийного поля будет реальным только на основе прохождения других партий в парламент. А это автоматически означает снижение процентов проголосовавших за Нур-Отан. В этом случае выход Лидера нации из партии позволит ему дистанцироваться от такого очевидного «неуспеха» правящей партии. Более того, позволит даже увеличить степени маневрирования, поскольку теперь потеря процентов не будет экстраполироваться на Президента.
- Укрепление партии Нур-Отан и подготовка ее к реализации п.3
Цель: Избежать обрушения партии, а напротив, превращение ее в реально сильный политический инструмент, ориентированный не на интересы бюрократии, а на формирование устойчивой и широкой социальной опоры.
Пути реализации: Партия должна сыграть центральную роль в установлении примата ценностного управления страной Лидером нации. Поэтому ее надо укрепить сильными и резонансными программами самостоятельного звучания, прежде чем прозвучит решение о выходе ЛН из нее.
Первая программа: Показательная борьба с проявлениями культа личности в стране. Реально за ней будет стоять только очищение пропаганды Президента от излишеств, но сама постановка вопроса будет обладать широкой резонансной силой. Доктрина борьбы с культом и культами по всей вертикали крупных госслужащих должна быть озвучена первым заместителем, желательно вновь назначенным, в качестве первого и главного поручения Лидера нации. В первую очередь проводится очищение пропаганды деятельности Президента от излишеств. В партии создается Дисциплинарный совет, который постепенно на передний план выводит публичное порицание группы действительно зарвавшихся фигур из центральных и региональных органов и постепенно спускает кампанию «вниз». Личный пример Президента произведет сильнейшее воздействие на поведенческий modus представителей истеблишмента, но главное – получит резонанс и поддержку широких слоев общества.
Вторая программа: Партия Нур-Отан провозглашает возврат к социал-демократической платформе партии. Самое интересное то, что именно Нур-Отан наиболее соответствует этому статусу по важнейшему организационному признаку – наличию финансирования через взносы членов партии. Известно, что ОСДП вообще этому признаку не соответствует, так как финансируется из одного-двух источников. Это программу необходимо довести до вступления в Социнтерн, чтобы окончательно отнять платформу у ОСДП. После выхода ЛН из партии Нур-Отан будет обладать прочной платформой с наиболее гарантированной массовой популярностью.
Третья программа: Нур-Отану, как правящей партии (а таковой она должна остаться и после 2012 года), отдается право, чтобы акимы областей, перед назначением проходили процедуру обязательного получения рекомендации от партии. Для этого разрабатывается соответствующая процедура заслушивания претендентов. Несмотря на то, что она будет чаще всего иметь символический характер, этот символизм (в другом понимании этого понятия) как раз и необходим. Он может быть усилен тем что процедуру будет проходить даже не один претендент, а несколько, чтобы создать прецеденты конкурентного получения рекомендации.
- Создание конкурентной среды в партийном пространстве.
Цель: Создание устойчивой и сбалансированной политической системы, тяготеющей к двухпартийной схеме, способной обеспечить максимальную устойчивость института Лидера нации. Вообще-то классическая политология считает, что главным и необходимым фундаментом двухпартийности является мажоритарная система выборов парламента. Однако к этому вопросу можно перейти только в будущем. Поскольку это касается конституционных изменений, целесообразность которых в предстоящую электоральную кампанию отсутствует.
Подцель: моделирование итогов предстоящих выборов и состава Мажилиса.
Форма: создание условий для развития партии № 2 и 2-3 миноритарных партий. В качестве оживления конкуренции – «второй партии» определяется перспектива получения поста вице-спикера в будущем Мажилисе.
Тональность: власть заинтересована в наличии в стране внятной оппозиции, поэтому в открытую, а не исподволь поддерживает развитие альтернативного политического видения. Перерегистрация ОСДП «Азат», в качестве демонстративного «шага навстречу» открытой конкуренции.
Миноритарии: ряд активных сигналов, что любая легитимная партийная деятельность приветствуется. Для это у группы в качестве оживления конкуренции – снижение проходного порога до 3 %.
Комментарий: Вопрос о моделировании «второй партии» является очень сложным, исходя из сложившегося обрушения брендов и персональных имиджей. В то же время это создает возможность начать моделирование практически с «чистого листа». На существующем партийном пространстве чрезвычайно близко к такой потенциальной модели стоит партия «Акжол».
Этот бренд, несмотря на очевидные признаки стагнации, тем не менее, инерционно обладает высоким процентом узнаваемости и даже фантомного доверия. Полный уход из партии команды Байменова и замена ее на более молодых и энергичных, способно относительно быстро привести партию к достижению необходимой кондиции, которая позволила бы рассматривать ее в качестве одного из прочных столпов будущей политической системы. В таком контексте запуск этой команды в электоральный цикл с целью ведения ею многовекторной конкуренции, как с Нур-Отаном, так и с ОСДП «Азат», способствовал бы появлению крепкого и конкурентоспособного сегмента парламентаризма.
Платформа партии могла бы измениться в сторону республиканской. В таком случае моделируемая конкуренция между ней Нур-Отаном становится близкой к классической. Желательно, чтобы эта партия получила более молодой кадровый состав, чтобы привлечь к себе ту аудиторию, которая является сегодня стратегической и целевой – молодежь. Однако, даже при молодости, республиканский формат всегда будет тяготеть к консервативному толку, поскольку во главу угла своей доктрины должен поставить буржуазный канон «неприкосновенности частной собственности» и защиту республиканского строя.
Партия должна практически сразу объявить о создании теневого правительства, причем ставку делать не на уже статусных персон, а на молодых и перспективных, что психологически сразу поставит партию в положение догоняющих. Но в то же время это проект создаст дополнительную интригу и не пройдет мимо широкого общественного резонанса.
Поле миноритариев чрезвычайно важно при моделировании состава нижней палаты, поскольку оно и будет представлять собой в идеале зону конкуренции между крупными субъектами за проведение решений. Снижение проходного порога, при том, что выглядит как уступка, на деле наоборот способно искусственно измельчить партию. Поскольку, если проходит 7 человек, то это уже полноценная фракция, а если два – то это настолько мало, что их прохождение имеет смысл только в иногда возникающих коллизиях голосования.
* * * * * * * *
Таково общее описание программ, которые могли бы в краткосрочной перспективе ответить на вызовы сложившейся ситуации в поле общественного сознания в соответствии с прогнозированием основного содержания периода.
Важно сейчас определить основные векторы преобразований, которые на сегодня выглядят неизбежными в силу ряда важных и, в некоторой степени, чрезвычайных ситуаций, если говорить о сложном международном фоне. И основными задачами будут являться – решительный захват инициативы на основе использования преимущества, предоставляемого возможностями изучения природы новых революций пост-фактум.
В то же время главным сегментом изучения является собственная казахстанская специфика формирования массового сознания, наличие в нем явных признаков революционного сознания и его потенциальных движущих сил. По сути, в предстоящий период будет закладываться дальнейшая тональность развития казахстанского общества, основные тренды его политической надстройки.
(2011г.)
1. Вступление
Завершив важную политическую кампанию, какой являлись досрочные президентские выборы, необходимо незамедлительно приступить к определению основного политического содержания поствыборного развития Казахстана.
Что свидетельствует о том, что смена политического содержания должна быть осуществлена?
Об этой необходимости свидетельствует ряд внутренних и внешнеполитических условий:
- Во внутренней политике существует комплекс проблем, обладающих явными признаками накопленной проблематики, способной не просто оказывать перманентное отрицательное воздействие на развитие страны, но и способствовать возникновению форс-мажорных ситуаций. Примером такой масштабной форс-мажорной ситуации может служить вынужденное решение проведения досрочных президентских выборов в стране и отказа от проведения референдума. Главной характеристикой этих причин является то, что к ней привела не деятельность сил, оппонирующих власти, а внутреннее состояние общественных отношений, сложившихся внутри самой правящей группы.
- Другой важнейшей характеристикой причин является то, что ситуация возникла не из-за случайно сложившихся факторов, а из-за того, что, накапливаясь, проблемы приобрели системный характер. Именно эта системность и обусловила масштаб воздействия на всю политическую среду страны.
- Третьим условие, ставящим казахстанские власти перед необходимостью изменений, является усиление внешнеполитического влияния на внутриполитическую сферу. Это и классические системные причины – предстоящие в 2012-м году президентские выборы в США и РФ. Но прежде всего это та высокая температура влияния, которой обладают события на арабском Востоке.
- Четвертое условие – продолжающееся усиления чрезмерной сублимации всего негатива в обществе на политический имидж Президента, как на единственный системно сложившийся политический институт, способный такую ответственность нести самостоятельно, не экстраполируя ее на другие субъекты политического поля. В условиях, когда другие институты умело дистанцируются от политической ответственности, это приводит к появлению «негативной прибавочной стоимости», являющейся обратной стороной национального лидерства.
- Четвертое условие усиливается пятым системным фактором необходимости изменений – это кардинальные изменения в социальной характеристике страт общества – появление «новых молодых избирателей», только готовящихся стать носителями традиционных казахстанских ценностей, но пока ими не являющимися. Это массовая среда, которая характеризует такое явление как смена внутреннего содержания и принципиально иной структуризации протестных настроений в обществе.
Очевидно, что здесь выделены условия, относящиеся к сфере политики, т.е. сферы общественных отношений, поскольку во многом структурные, экономические и социальные проблемы общества чаще всего являются следствием, проистекающим из «надстройки» общества.
2.
Международная проблематика
Основными общими факторами влияния международной ситуации на Казахстан являются прежние:
- Последствия глобального кризиса (мировой передел влияния) и высокая интегрированность Казахстана в мировую экономику, а, следовательно, в глобальные и региональные процессы, говорят о том, что фон международных событий будет играть все более важную роль в определении векторов внутриполитического развития нации;
- Несмотря на то, что не существует убедительных доказательств того, что западные акторы на арабском Востоке обладают реальной силой управления региональными процессами, очевидно то, что они будут стремиться сохранять принцип баланса нестабильности. Это означает, что пока существует «дуга нестабильности» в арабских странах, на такие регионы как Центральная Азия, негативное разрушительное влияние будет не самым активным. Тем не менее, такое положение дел сохранится недолго, следовательно где-то к концу 2011 – началу 2012 ситуация может измениться кардинально. Определенным индикатором завершения «арабского цикла» будет являться ситуация в Ливии.
- Дополнительным фактором международного влияния может стать резкая дестабилизация ситуации в одной из стран-соседей по Центральной Азии. Речь идет о других странах, помимо Кыргызстана, где «зона нестабильности также продолжает оставаться. Если же социальные потрясения коснутся Узбекистана и Таджикистана, то они неизбежно будут усилены российским трендом к усилению собственного влияния в регионе, который они считают для себя «каноническим». Возможно, что деятельности России будет более активна, нежели в Кыргызстане. Это будет обусловлено двумя причинами – кануном президентских выборов, в котором «партия силы» России будет стремиться разыгрывать карту державности, а также тем, что низкая активность РФ приведет к ослаблению ее влияния.
Что из событий на арабском Востоке, который продолжают оставаться главным трендом влияния, позволяет говорить о силе их воздействия на внутреннюю ситуацию в Казахстане?
Несмотря на наличие в арабских странах собственной специфики, для нас безусловно важную роль играют идентификационные сходства, причем не столько в экономических показателях развития, сколько в сфере общественных отношений. Таким образом:
- Главный аспект – это прямое апеллирование критиков Казахстана к основной характеристике его современного политического строя – к долговременному пребыванию Первого президента у власти. Для нас проведение прямых аналогий с падающими режимами на Востоке, настоятельно выводит на первый план необходимость выстраивания новой доктринальной аргументации на принципиально новом уровне. Для этого необходимо изменение ракурса видения не только базовых подходов к новым критериям устойчивости политического строя, но и к оценке инструментария, способного эти критерии эффективно претворить в жизнь;
- Другим важнейшим аспектом является то, что события в арабских странах привели к обострению ситуации в других государствах, даже географически отдаленных от Северной Африки. Это свидетельствует о росте вариативности влияния «арабской протестной волны» на Казахстан. Т.е. разнообразие причин протестов будет поднимать на поверхность весь спектр социально-экономических достижений нашей страны и подвергать их проверке на устойчивость;
- Регион Центральной Азии после «арабского пояса», по своим геополитическим характеристикам, неизбежно попадает под волну психологических ожиданий изменений в регионе. Этот психологический фон также сыграет роль внешнего источника программирования для нашей страны, и его не стоит недооценивать.
Таким образом, развитие последствий глобального кризиса, (а, возможно, и развитие его последующих волн) позволяет сделать вывод, что в краткосрочный период схожесть показателей развития стран «революционного пояса» и их политических режимов с Казахстаном, с одной стороны, станет непременным фактором прямых стремлений ослабить политический строй как изнутри, так и извне; но с другой стороны, позволит, благодаря своевременному и квалифицированному анализу и изучению, сыграть на опережение и упредить негативные тренды. Казахстан в принципе обладает таким опытом преодоления программирующего влияния извне –это опыт с воздействием «цветных революций» на территории стран СНГ на казахстанское общество.
В этом ключе необходимо отметить следующее – должны значительно повыситься требования к тем отечественным институтам, которые осуществляют концептуальную и аналитическую деятельность. В частности в области внешней политики, поскольку противостоять придется огромной программирующей волне влияния со всех сторон.
3.
Внутриполитические задачи.
Состояние основных субъектов политического поля.
Мониторинг и анализ устойчивости политического строя, основных его инструментов, которые отвечают за нее непосредственно, позволяет судить о следующем:
- То, что Президент фактически был оставлен один на один с «вопросом о референдуме» и был вынужден формировать политическую повестку дня самостоятельно, свидетельствует, по меньшей мере, о кризисных явлениях в основных институтах поддержки президентской власти. Прежде всего, речь идет о кризисе в правящей партии НДП «Нур-Отан». Кризис может быть определен только по оному признаку – без административных методов решений, партия фактически не контролирует общественное сознание, предпочитая существовать его в искаженной картине, когда за реальный успех выдается PR версия положения дел в обществе. В принципе, рост вариативности социального протеста – прямое следствие недостатков работы партии, вируализации ее деятельности.
- Поскольку «Нур-Отан» является стержнем политической системы страны, то кризис распространился на всю партийную сферу. Хотя к собственному кризису различные партии пришли по самостоятельным причинам. Многие эксперты говорят об «обнулении» практически всего партийного поля, а эта ситуация по-настоящему представляет из себя опасность, поскольку вся сфера общественного сознания перемещается в иррегулятивное пространство. Партии сопровождения «Нур-Отана» вообще утеряли всякий смысл своего существования, поскольку лишь дискредитируют своей безаппелятивностью имидж Президента.
- Путем виртуализации политики провластные партии фактически нивелировали эффективность отечественных СМИ. В рейтингах и замерах аудитории сознательно осуществляется подмена понятия информационного и интерпретационного доверия. Официальные СМИ априори не могут утерять информационного доверия, поскольку обладают приматом использования государственной информации и ее легитимизации (например, публикация Законов). Интерпретационное же доверие является самым важным, но оно прочно перешло в интернет-сети, которые, как известно, послужили роль главного инструментария «арабских революций».
- Таким образом, сознательная виртуализация принципов управления провластными политическими институтами воздействия на общественное сознание, привело к утере реальной конкурентоспособности. Хотя главной причиной ее утери является все же отсутствие реального конкурентного поля, где они сами дают себе какие пожелают показатели успеха и транслируют их «наверх» под видом реальных. Это позволяет политическим институтам власти виртуализировать и свою успешность, которая находится вне каких-либо достойных доверия критериев эффективности.
- Что касается партий официальной оппозиции, то многолетнее пораженчество и неустойчивость политического кредо привели к полному обрушению и их авторитета. Неучастие в предвыборной кампании, уязвимость кандидатов от случайного стечения обстоятельств (как в примере с Б.Абиловым, для которого была закрыта дверь на выборы выведением У.Кайсарова из гонки языковой комиссией) привели к тому, что эти партии также не контролируют свой сектор общественного сознания.
- В итоге, утеря ментального политического контроля над сегментами общественного сознания приводит к тому, что оно начинает самоорганизовываться в тех пространствах, где политика еще не виртуализирована до конца – в интернет-сетях, на традиционных кухнях, а возможно и на улицах.
Какая динамика в последние годы произошла в основных социальных стратах?
- Последствия глобального кризиса привели к существенным потерям главный стабилизирующий класс страны – средний класс, основу которого составляет мелкий и средний предприниматель (о среднем исполнительском звене госаппарата ниже). Эта страта сегодня разрушена не только и не столько уменьшением государственного заказа – она стала объектом разорения со стороны госаппарата, финансовых, налоговых органов и банков. Сегодня фактический весь малый массовый бизнес перераспределен из частных рук в руки новых собственников – семей и родственников сотрудников силовых и административных органов. Они же страдают от многоуровневой коррупции в госорганах.
- В свою очередь такие процессы привели к маргинализации соответствующего звена госслужбы, отрыву ее интересов от интересов государства и правящей власти.
- Массовые социальные страты оттеснены на уровень устойчивой периферии политики, реагирующей только на прямое административное управление. А поскольку между ними и властью стоят слои, утрачивающие свою государственническую сущность, но продолжающие играть социальные роли лидеров мнений, то такая ситуация означает изоляцию массовых страт от государственной идеологии. Она приходит в «нижние» слои общества лишь через виртуализированные СМИ и в ином другом искаженном виде.
- Сегодня об уровне виртуализации политических задач говорит отсутствие корректных политических оценок стабильности казахстанского общества, когда массовой опоре политического слоя уделяется максимум внимания, в то время как для того, чтобы общество развалить насильно достаточно 2-5 % стихийно или целенаправленно самоорганизовавшихся движущих сил революции.
4.
Пути выхода из сложившейся ситуации.
Гипотетически существует три вероятных сценария дальнейшего развития событий:
- Инерционный (консервативный) сценарий.
- Кардинальный (либерализационный) сценарий.
- Адаптационный сценарий, сочетающий в себе достоинства двух предыдущих.
Какой из них выбрать?
Инерционный сценарий. Позитивные черты.
- Инерционный (консервативный) бесспорно обладает рядом достоинств. К ним можно отнести опору на уже создавшиеся традиции управления, испытанные методы регулирования социальных противоречий и часто повторяющийся за 20 лет опыт успешного достижения целей. К позитиву можно отнести также и то, что любой отход от традиционности создает качественные изменения в социальных стратах, в частности в элитах. Однако, в складывающейся динамике консервативный сценарий обладает и рядом негатива. Прежде всего речь идет о накопленной проблематике, о которой говорилось выше, которая фактически и стала продуктом консервации монопольного положения в различных сферах общественной жизни.
- В пользу консервативного сценария говорит также и такой отрицательный геополитический опыт, как «либерализация по Горбачевски», вначале подразумевавший необходимость модернизации («ускорение темпов развития»), реформы («перестройка») и расширения демократических свобод («гласность»). Итог этой либерализации известен – среди триединой задачи первая исчезла фактически сразу, вторая была заменена приватизацией, а третья привела к полной утере контроля над общественным сознанием. В итоге СССР исчез с карты мира. Задача внутренняя (модернизация и повышение конкурентоспособности советского общества) была полностью подменена «внешним» заказом – приватизацией по-западному, т.е. де-факто, уничтожением опорных секторов государственной экономики, и демократизацией по-западному – перекройкой сознания на западный манер, отказа от коллективных ценностей в пользу социального эгоизма. Традиции масштабного планирования и последовательного целеполагания были подменены сомнительными программами типа «500 дней» Е.Гайдара.
- В инерционном сценарии больше всего заинтересована высшая элита страны, представляющая собой главный консервативный социальный сегмент. Консерватизм ее обеспечен тем, что элита годами занималась строительством и распределением сфер влияния, а теперь вряд ли согласна это менять. Такая зависимость элит создает условия по ее предсказуемости и управляемости.
Инерционный сценарий. Негативные черты.
- Консервативный принцип резко диссонирует по все параметрам с понятием модернизации, прежде всего модернизации управления. В первую очередь это происходит потому, что модернизация управления подразумевает подбор кадров по профессиональному признаку, а не по принципу личного доверия. Это системный недостаток, он, вопреки расхожему мнению, не является следствием личностных качеств представителей элиты и не сводится к элементарному родственному непотизму. Осуществление контроля над распределением государственных средств и над коммерческим сектором – это основное препятствие модернизации. Это и есть одна из основных причин того, что реформа государственной службы никогда так и не осуществилась по сути, а только по принципу видимого виртуального эффекта. Не случайно никогда не удавалось реальное сокращение госслужащих. Причина в одном – даже если эпизодически трудоустроить профессионалов, то все равно остается задача трудоустроить и «контролеров», которые, как правило, никогда не являются ни профессионалами, ни представителями отрасли. Возникают новые фантомные структуры, который решив временные задачи, потом все равно избавляется от «ненужных» кадров, но фантомные структуры и должности продолжают существовать по инерции.
- Из первой характеристики вторая – консервация государственных интересов в резервации. Когда участник процесса управления не профессионален и существует вне критики и конкуренции, он все же должен исполнять свои прямые функции, которые на него наложены «патроном» — распределять средства, блага и осуществлять административное влияние. На это уходят его основные силы, оставляя государственные цели и задачи на периферии. В такой ситуации госинтересы минимизируются, и непрофессиональный чиновник не заинтересован в их усложнении, а напротив – в максимальном упрощении. Это является системным источником политической кампанейщины, а затем и его главным инструментом реализации. Такова судьба практически всех политических кампаний «на местах». Она исполняется по принципу «лишь бы избавиться» и «все равно какими методами». Такой непрофессиональный управленец ни малейшим образом не заинтересован в общем имидже власти. Он отрабатывает свою «резервацию», а затем спокойно занимается реальной политикой в своих интересах и своей группы элит.
- Третья характеристика является неизбежным сценарным последствием двух первых. Если государственная машина будет двигаться в инерционном направлении, то ей не нужен никакой ни внешний, ни внутренний противник – она сама создаст себе проблему, рано или поздно приобретающую общенациональный масштаб и превращаясь в прямую угрозу власти. Как правило, качество исполнительской дисциплины трактуется как откровенная глупость людей «на местах» и «в регионах», в то время как мы имеем дело с системной проблемой мотиваций, более удачно маскируемой «наверху», но совершенно прозрачно понимаемой в низовых звеньях управления. По сути, такая управленческая система обречена на взращивание протестных настроений. Региональные элиты очень жестко расставляют своих агентов влияния, которые способствуют консервации подобных отношений «любой ценой», при этом самой дешевой ценой для них становится имидж центральной власти.
- Четвертой негативной характеристикой инерционного пути является то, что у таких «резерваций» есть свои управленцы, оторванные от распределения средств, но сохраняющие административное влияние на этот непрофессиональный сектор, имеющий смещенную систему мотиваций.
- Все описанные характеристики основаны на следующем факторе – отсутствие конкурентности в Центре, нивелирует даже ее малые ростки в регионах. Отсюда – не существует реальной системы эффективности проведенных мероприятий. Это происходит потому, что никто не дает «наверх» реальное положение дел, а лишь виртуальную картинку, работу с которой региональные элиты освоили на «отлично». При этом формула «поставить контролеров – агентов Центра» приводит к постепенной адаптации этих контролеров в региональную систему, а значит, приводит к появлению «контролеров этих контролеров» и так до бесконечности.
- Таким образом, главные последствия консервации положения – это неизбежное падение качества государственных услуг, падение профессионализма, тупики административной реформы и расширенное воспроизводство протестного потенциала по всей горизонтали общества. Но главное – это неизбежное системное воспроизводство идеи и процессов, дискредитирующих центральную власть, а следовательно не являющееся для нее критерием устойчивости.
- Естественно источники угрозы здесь описаны лишь в одном из ракурсов. Если в регионах происходят межведомственные или клановые войны, то в них оказываются втянуты все причастные в Центре. Специфика управления общественными отношениями из рядов элитно-клановых групп сразу экстраполирует проблему на весь Казахстан. Здесь описан лишь один существенный нюанс управления общественным сознанием. Но самым главным был и остается вопрос управления капиталом, неприкосновенности собственности, свободы ведения бизнеса и залогов его выживаемости. Эти вопросы чаще всего системно сталкиваются с правоохранительной и судебной системами, где также отсутствует какая-либо оценка их эффективности со стороны общества.
- В условиях, когда Президент говорит на весь мир об изменении ценностных категорий общественных отношений, отрицая эгоцентричность и сосредоточенность на узких личных интересах, это звучит резким диссонансом с состоянием ментальности в казахстанской периферии. В первую очередь потому, что носителями ценностных категорий являются не просто люди, а системно организованные персоны, не имеющими ничего общего с общегосударственной политикой Президента. Сегодня линия протестности имеет только два сегмента – «Я против центральной власти, потому, что она решает все и ответственна за все». При этом региональные и ведомственные власти вообще выведены из системы ценностей, когда речь идет о ментально-этической форме протеста. В такой ситуации даже политический паразитизм, который заставляет человека игнорировать выборы председателя КСК или члена маслихата, может сублимироваться на Центр. Потому что в таком протесте человек более четко чувствуют свою массовость, а значит и безопасность.
- Необходимо отметить не только то, что инерционный сценарий сам идет навстречу к своим проблемам, но и то, что уязвленные слои населения еще и активно рекрутируются различными видами мировоззрений чуждого для Казахстана содержания. И это не только исламский экстремизм и иное религиозное сектантство, это и в целом неустойчивость общего политического сознания, размывание патриотизма и откровенное скатывание к радикализму.
Если принять во внимание, что вопросы отношения социума и государства имеют массу аспектов взаимодействия, которые сегодня нуждаются в качественно новом подходе, то можно рассмотреть в них много примеров неизбежного накопления проблем, ищущих ментально-эмоционального выплеска.
Либерализационный сценарий. Позитивные характеристики.
- Главное достоинство сценария либерализации общества – это косвенное управление общественным сознанием нации, при эффективности которого приобретается массовая самоорганизация сторонников власти, которые делают это не «из-под палки». Это означает, что массовая опора политического строя способна не просто стоять на пассивных позициях одобрения и поддержки политики Президента, но и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций активно встать на ее защиту. Причем не обязательно эта опора должна составлять большой процент от числа активных членов общества. На защите Белого Дома в Москве от ГКЧП стояло около 10-ти тыс. человек. Если учесть, что тогда это количество соотносилось не с населением России, а СССР, то это — мизерная часть, причем обладающая противоречивыми мотивациями, оказалась весьма серьезной активной политической силой. Тем не менее, была решена судьба крупнейшего геополитического субъекта. Сегодня в Казахстане, активные массовые сторонники Президента вряд ли проявят инициативу, просто ожидая, что кто-то по привычке их организует и направит в нужном направлении.
- Другой главной особенностью является то, что протестное сознание будет в значительной мере рассегментировано на общенациональные и региональные проблемы. Косвенное управление создает значительные возможности в направлении протестного сознания в различные стороны реализации политической активности.
- Либерализация общественного сознания создает резкое повышение социальной инициативы, а такая инициатива, вопреки стандартным представлениям, настолько многовекторна, что люди начинают массово выпадать из общенациональной протестности, предпочитая воевать с местным судьей или поликлиникой, что ближе и естественнее для их социального статуса. А это, в свою очередь, повышает политическую ответственность, идеологическую устойчивость и конкурентность каждого чиновника на собственном месте, от которых они сегодня массово и удобно для себя отстранились.
- Либерализация СМИ резко повышает требования к ним, как к профессии журналиста, так и к качеству их публикаций. Это значительно уменьшает значение и разрушительную силу от вульгарной войны компроматов.
- При либерализации партийного движения резко повышается ответственность и политическая боеспособность партии власти.
- Открытая и заявленная либерализация создает возможность для приобретения прочной внешнеполитической платформы, в частности на Западе или в международных организациях.
Достоинства либерализации как таковой обширны, здесь указан лишь тот эффект, которого нужно добиваться в Казахстане там, где сегодня наиболее востребована либеральная реформа. Очевидно то, что либерализация объективно помогает преодолеть те недостатки, которые заложены в консервативном сценарии развития событий. Избежать, прежде всего, неизбежности системных ошибок и сублимации максимальной политической ответственности за них исключительно на Президента.
Либерализационный сценарий. Негативные характеристики.
- В целом представления о негативных последствиях реализации чисто либерального сценария хорошо описывает «Горбачевская либерализация», которая для большинства поколений является опытом, пережитом лично. Итог бездумного «отпускания вожжей» приводит и к утере контроля над достижением целей, как этапных, так и конечных.
- Однако для Казахстана такая либерализация значительно усложняется тем, что мощь СССР так или иначе не сопоставима с мощью нашей страны. Вопрос не в масштабности цифр, армии и силы спецслужб, речь идет об устойчивости общественных отношений, характеризующей устойчивость политического строя. СССР вышел на старт либерализации только-только открывая железный занавес. Наша страна уже долгие годы проповедует открытость миру, интегрированность во все глобальные процессы. Это в свою очередь формирует и «негативную прибавочную стоимость» — открытость к глобальным кризисам. Но самое главное – это уязвимость к массированному внешнему влиянию, которое неизбежно возрастет в разы в результате открытой либерализации – поскольку для нее открываются многочисленные и вариативные коридоры влияния.
- Безоглядная либерализация неизбежно влечет за собой охлократические явления, когда неподготовленные группы людей попадают под обаяние абсолютно деструктивных сил. Это может составить серьезную угрозу при расширении электоральных полей – например акимов. При этом активное вмешательство с целью обезопасить себя от ошибок будет неизбежно расценено как вероломное нарушение политических «правил игры»
- Также охлократическое управление может привести к криминализации определенных властных институтов. Особенно это касается органов представительной власти.
- Либерализация неизбежно ведет к легализации деятельности пусть немногочисленных, но, все же, открытых противников лично Президента, стоящих чисто на антипрезидентской платформе.
Адаптационная модель развития.
Как видно из краткого анализа либеральной и консервативной версий, оба сценария обладают видимыми преимуществами и недостатками. Во всех случаях речь идет о вопросах управляемости систем, при избрании того или другого пути развития. Причем здесь рассматривается лишь вопросы управления лишь отдельных аспектов общественно-политического пространства, не затрагивая правовой, экономической и других сфер жизни общества. Это объясняется не ограниченностью подхода, а определением внутриполитического поля, в качестве основного поля, через призму которого формируется целеполагание всех остальных, видится степень допустимости тех или иных преобразований.
Сравнивая обе модели и рассматривая их на фоне складывающихся внешнеполитических и внутриазахстанских реалий, можно сделать вывод о том, что наша политическая система в равной мере нуждается как в сохранении традиционного позитива, так и в приобретении нового потенциала.
Это позволяет сделать вывод о том, что сегодня необходимо избрать адаптационную модель, главной характеристикой которой должны стать управляемость процесса в вопросах достижения реальных этапных и конечных целей. Для этого необходимо разработать максимально расширенную и многоаспектную программу развития. Поскольку мы изначально используем сравнительную методологию, то в основу программы должен лечь качественный SWOT анализ, учитывающий малейшие слабости, сильные стороны принимаемых решений, а также позволяющий трезво оценить открывающиеся возможности и реализацию угроз.
После SWOT анализа необходимо создать Анализ взаимовлияния процессов, в особенности воздействия правовых и структурных преобразований, которые неизбежно коснутся различных сфер казахстанского общества.
Данная работа ставит целью анализ принятия решения в выборе того или иного пути на основе принципиальной политической воли.
Поскольку центральным полем преобразований необходимо считать поле общественно-политического сознания, то рассмотрим основные этапы возможного внедрения модели адаптационной либерализации казахстанского общества и ее основные принципы.
Главный принцип адаптированного подхода – это опора целиком на казахстанские реалии, внешние модели могут изучаться лишь в качестве понимания вариативности выбора путей.
Здесь мы можем привести основные этапы реализации модели, чтобы представлять разницу между возможной и необходимой степенями либерализации общества:
За первый и краткосрочный этап принимается период до 2012 года.
На первом этапе решается задача: «развитие партий на общегосударственном уровне»:
- Необходимо осуществить ряд регулятивных функций в партийном пространстве. Снижение порога проходимости в Мажилис до 3 %.
- Создание конкурентного климата для партий. Либерализация политики государственных СМИ по отношению к зарегистрированным партиям. Регистрация Объединенной ОСДП «Азат».
- Создание партии № 2 (или ребрендинг одной из существующих), возможно партии № 3.
- Парламентские выборы должны стать завершением этапа «развитие партий на общегосударственном уровне» — 2012 год лето.
- Позиция вице-спикера в Мажилисе – партии № 2. Версия: количество вице-спикеров соответствует количеству партий)
Поле миноритариев чрезвычайно важно при моделировании состава нижней палаты, поскольку оно и будет представлять собой в идеале зону конкуренции между крупными субъектами за проведение решений. Снижение проходного порога, при том, что выглядит как уступка, на деле наоборот способно искусственно измельчить партию. Поскольку, если проходит 7 человек, то это уже полноценная фракция, а если два – то это настолько мало, что их прохождение имеет смысл только в иногда возникающих коллизиях голосования.
На втором этапе решается задача: «погружение парламентских партий в региональную проблематику»:
- Принятие принципов государственного финансирования партий по пропорциональному признаку представленности в Парламенте. А следовательно, в избирательных комиссиях.
- Принятие партиями участия в выборах в маслихаты – 2012 год осень.
- Погружение партий в региональную проблематику.
По сути, реализация такой программы в партийно-политическом пространстве послужит тому, что:
- К партийно-политическому полю будет приковано максимальное внимание, что позволит определять политическую повестку дня и измельчить тематику вне-легитимных политических групп.
- Это позволит сделать так, что в предстоящий краткосрочный период будет закладываться дальнейшая тональность развития казахстанского общества, основные тренды его политической надстройки.
- Именно сложившийся состав парламента позволит сохранить необходимый баланс консервативного и либерализационного крыльев, поскольку дальнейшей задачей будет моделирование межпартийной дискуссии. Которая будет локализована в определенных «пятнах СМИ» и в парламенте РК.
- Погружение партий в региональную тематику, поддержка этого тренда позволит значительно усилить конкуренцию элит в регионах, вынудить ее избегать неприкрытого непотизма и депрофессионализации кадров различного уровня.
(2011г.)
- Общая ситуация и международный контекст текущего момента.
Сегодня несмотря на то, что основным пунктом политической повестки дня в Казахстане являются досрочные президентские выборы, необходимо незамедлительно приступить к определению основного политического содержания поствыборного развития государства.
Сложившаяся внутриполитическая ситуация, усиленная фоном международных событий, с высокой долей очевидности говорит о том, что главной характеристикой этого содержания должны стать действия, носящие серьёзный, а подчас и кардинальный характер преобразований в стране.
Об этом свидетельствуют тревожные сигналы, демонстрирующие, что в обществе сложился комплекс проблем, носящих явные признаки накопленной проблематики, способной отрицательно влиять на основные парадигмы стабильного и поступательного развития Казахстана. Более того – повлечь за собой разрушительные тенденции.
Ни одно общество не способно развиваться без недостатков, ошибок и сопутствующих проблем развития. Периодически они находят свое разрешение, периодически же заходят во временные тупики и требуют активного пересмотра стратегий их решений. Однако, подвергая анализу комплекс проблем казахстанского общества сегодняшнего дня, можно резюмировать то, что, некоторые «тупики» привели к многоплановым кризисным явлениям, приобретшим характер системности, а следовательно, обладающим сильным негативным влиянием на все стороны политэкономической жизни страны.
Фактором наиболее значительного и системного влияния на казахстанскую проблематику продолжает оставаться мировой кризис, причем не только в его экономической ипостаси, но и в контексте складывания нового миропорядка. Исторический опыт говорит, что экономическим потрясениям глобального характера всегда последуют гиперактивные социальные и политические изменения в отдельных странах и в целых регионах. История ХХ века демонстрирует, что последствия кризиса могут эхом отозваться и по истечении 10-20 лет, и этим эхом может быть мировой военный конфликт.
Мировой кризис уже привел к определенной трансформации институтов глобального консолидированного управления. Достаточно упомянуть перемещение акцента с G-8 на G-20, что два-три года назад оценивалась лишь как наметившаяся тенденция. Роль международных организаций и форумов – ООН, ОБСЕ (с мандатом, ограниченным географически, но все же с глобальным ценностным звучанием), а также региональных интеграционных объединений – НАТО, ШОС, ОДКБ, ОИК и пр., все больше рассматривается через призму эффективности поиска и решения широкомасштабных задач мирового урегулирования кризисных проблем человечества, т.е. предъявление к ним управленческих требований, ориентированных на результат.
Эксперты заговорили о новой конфигурации полюсов влияния в мире – идеи G-2 (США – Китай), реанимированные З.Бжезинским, G-3 с участием Европы, новые вариации многополярности и так далее. Необходимо обратить внимание на то, что в этих идеях речь чаще всего идет о доминирующих политических игроках. В то время как огромной части государств земного шара мировыми центрами силы инерционно отводится роль наблюдателей, которым придется смириться с новым мировым порядком. Причем эти наблюдатели в дальнейшем должны будут стать субъектами принуждения к новым условиям глобального управления.
История мировых кризисов демонстрирует: самым опасным их последствием является то, что в процессе борьбы с ними мир делится на страны, успешно справившимися с кризисом и на аутсайдеров. Причем именно в аутсайдерских кругах возникает угроза возникновения новых и опасных мировых трендов. Так мировой кризис и волна революций начала ХХ века привели к краху Веймарской Германии и установлению фашизма, впоследствии развязавшего Вторую мировую войну. Кризис 70-х годов привел к окончательному отрыву Федеральной системой США доллара от золотого эквивалента и взрыву цен на нефть. Это привело, в конце концов, к возникновению таких феноменов как Исламская революция в Иране и установлению там исламского правления. А впоследствии – ко второму витку кризиса, теперь энергетического, приведшему к всеобщему экономическому спаду, который продолжался до 1982 года.
Опасным становится даже не только попадание в ряды этих стран-аутсайдеров, но и географическое соседство или типологическое сходство политических укладов, структуры экономики, социальной специфики или ментальной схожести с ними.
Волна революций на Ближнем и Среднем Востоке, вне всякого сомнения, встроена в контекст мирового кризиса. Эксперты по-разному трактуют причины возникновения новой волны нестабильности. Однако ими безусловно принята точка зрения, что конфликт в Тунисе и Египте не являлся охлократической вспышкой, а движущими силами революций оказались образованные слои общества «нового поколения». Основными причинами принято считать высокий уровень безработицы, стагнацию политических институтов, приведшую к отсутствию «социальных лифтов» для нового поколения молодежи. Т.е. в большей степени причинами сугубо внутриполитического характера.
Вот, к примеру, выдержка из интервью Е.Примакова «Российской газете, 1 февраля с.г.: События в Египте носят не религиозный, а социальный характер. Мы совершенно справедливо концентрировались в своих оценках на набиравшем силу радикальном исламизме в мусульманском мире и как-то оставили в стороне возможность «традиционных» социальных революционных взрывов. Вообще посчитали, видно, что процесс революций, сметающих консервативные, авторитарные режимы ушел, в прошлое, в том числе в развивающихся странах. События в Тунисе и в Египте показывают, что это не так.
Несомненно, социальные факторы сыграли свою роль, но глобальный кризис позволяет рассмотреть базовые причины революций и с другого ракурса. И главным вопросом для Казахстана является: почему, несмотря на годы стабильного развития под руководством одной политической фигуры, которой в течение многих лет без сомнений отдавались политические предпочтения нации, революции имели явную анти-лидерскую направленность? Именно этот контекст и актуализирует «арабскую волну» для нашей страны.
Относительно высокий образовательный уровень протестности в указанных странах позволяет выделить международный контекст причин, приведших к свержению многолетних политических режимов в странах Ближнего и Среднего Востока. Исследование глобальных сетевых ресурсов (Твиттер, Фейсбук и прочих), которые стали движущими инструментами революций, показало, что там имеет место такая классическая причина кризисов, как реагирование на мировое распределение труда и на достижения развития НТР (научно-технической революции). Однако в условиях формирования нового миропорядка эта причина приобрела новое звучание.
Участники обсуждений в интернет-форумах говорят о том, что объектом недовольства стала многоуровневая зависимость компрадорской олигархизированной элиты от манипулирования со стороны глобальных центров силы. Эта зависимость возникла из-за сложившегося за много лет стандарта накопления средств и активов, которое осуществлялось за рубежом, как в виде накоплений в банках и фондах, так и в виде IPO на западных биржах компаний, имеющих национальное происхождение. Такой метод накопления, по мнению участников революции, консервирует зависимое положение элиты, а в итоге и нации, обрекает страну на углубление аутсайдерского положения в мире. При этом, волна трудовой эмиграции рассматривается именно как следствие, а не первопричина.
Таким образом, речь идет о мировом процессе сопротивления стран «не первого эшелона», средних и малых субъектов международной политики, складыванию новой системы глобального управления, которая постепенно стала выстраивать свою пирамиду от расширенного G-20 по вертикали вниз. И это только по публичным институтам мирового управления. В намечающейся вертикальной схеме этим странам отведена участь управления ими через элиты, зависимые от стран «первого порядка» интегрированностью узкого правящего истеблишмента в международный капитал в ущерб широким слоям населения в самих странах.
Революционные события в арабских странах буквально отобрали у казахстанских официальных идеологов такой пласт фундаментальной логики пропаганды, как сравнительный анализ показателей развития. Более того, появились новые показатели, например, протестный индекс. Согласно ему Казахстан находится на 31-м месте, т.е. выше (что означает худшее положение), чем Таиланд, который совсем недавно прошел через массовые потрясения и Бахрейн, который испытывает потрясения сейчас. Вне всякого сомнения, эти индексы будут еще оттачиваться в методике, но вряд ли изменят свои принципиальные подходы.
Массовые идеологи революции (а они обладают подчеркнуто массовым характером), предвосхищая предстоящую нестабильность, уже начинают вырабатывать идеологию оправдания постреволюционного хаоса, продвигая идею о том, что хаос является сознательной жертвой нынешнего поколения поколениям грядущим. Во многих странах эта жертвенность находит весьма эффективный отклик. Существует объективная вероятность того, что такая идеология приобретет в некоторых странах устойчивый характер, ведь этому также много доказательств в мировой истории.
Возвращаясь к казахстанским идеологам, необходимо отметить, что сегодня и для нас пропаганда абсолютного негативного отношения к хаосу, также будет резко терять свою эффективность. Точнее абсолютную эффективность, поскольку в некоторых странах арабского Востока революция приведет к ужасающим последствиям, как это имеет место в Ливии, но в некоторых странах возможен более мягкий сценарий. К сожалению, человеческая натура начинает понимать многие вещи только испытав их в реальности, поэтому речь идет об излишней романтизации хаоса, которая все же не будет лишена определенной пропагандистской силы.
Остальные показатели развития Туниса и Египта имеют сходный порядок с Казахстаном, что, несомненно, развивает тему идентификации нашего политического строя с режимами, свергнутыми в этих странах.
Развитие последствий глобального кризиса, (а, возможно, и развитие его последующих волн) позволяет сделать следующие выводы:
- Высокая интегрированность Казахстана в мировую экономику, а следовательно, в глобальные и региональные процессы, говорит о том, что фон международных событий будет играть все более важную роль в определении векторов внутриполитического развития нации;
- То, что события в арабских странах привели к обострению ситуации в других государствах, даже географически отдаленных от Северной Африки, свидетельствует о росте вариативности этого влияния на Казахстан. Т.е. разнообразие причин протестов будет поднимать на поверхность весь спектр социально-экономических достижений нашей страны и подвергать их проверке на устойчивость;
- В краткосрочный период схожесть показателей развития стран «революционного пояса» и их политических режимов с Казахстаном, с одной стороны, станет непременным фактором прямых стремлений ослабить политический строй как изнутри, так и извне; но с другой стороны, позволит, благодаря своевременному и квалифицированному анализу и изучению, сыграть на опережение и упредить негативные тренды.
Рост влияния международных трендов на внутриполитическое развитие Казахстана говорит, прежде всего, о том, что перед государствами-средними субъектами международной политики на первый план выходит задача выработки для себя новых критериев устойчивости политического строя. Более того, выносит эту задачу на уровень неизбежной необходимости.
Следует учитывать, что сегодня международными социальными сетями полностью разрушена монополия отечественных экспертных и пропагандистских сообществ на оценку ситуации, сравнительный анализ и на формирование отношения социума к политическому строю государства.
Исследования показывают, что со времени возникновения в Казахстане дискуссии о референдуме и практически синхронного появления волны «арабских революций», именно политическая активность в интернет-сетях увеличилась, без преувеличения, на несколько порядков. Это связано не только с вовлечением в политическую тематику новых пользователей сетей, но и с политизацией тех ресурсов и сайтов, которые раньше принципиально дистанцировались от политической риторики.
По мнению независимой исследовательской компанией ICT-Marketing, количество пользователей интернет в стране достигло 4,3 млн. чел., что соответствует 26,5 % населения и почти половины избирателей Казахстана. Если даже уменьшить этот показатель вполовину, учитывая долю подростков и своеобразие подсчета IP адресов, то это более 2 млн. чел., и вряд ли этот показатель хуже, чему у Туниса или Египта. То есть доступность населения к информационному инструментарию является фундаментальным фактором в определении векторов внутриполитического развития. В сочетании с развитием технологий астротерферов (манипуляторов и организаторов псевдо-дискуссий) этот инструментарий приобретает полноценные черты кибер-оружия.
То же самое можно и говорить об уровне образованности населения Казахстана, которое помимо достижений в годы Независимости, продолжает нести в себе наследие советского образования, а в последнее время еще и значительно подкрепилось выпускниками западной высшей школы.
Вообще, говоря об экспертно-аналитических центрах страны, мы вынуждены констатировать их хроническое отставание от реалий жизни. Масса исследовательских социально-политических структур уже несколько лет занята лишь реагированием на сложившуюся ситуацию и комментариями, которые посвящены лишь констатацией сложившейся ситуации. Экспертными кругами практически полностью утрачена способность прогнозирования и, как следствие страдают их основные потребители – субъекты публичной политики и госаппарат. Сегодня они не в состоянии конкурировать с внешней волной аналитики, трактовок и интерпретаций политических смыслов.
Необходимо отметить и главный аспект международного влияния – это прямое апеллирование к основной характеристике политического строя современного Казахстана – к долговременному пребыванию Первого президента у власти. Проведение прямых аналогий с падающими режимами на Востоке, настоятельно выводит на первый план необходимость выстраивания новой доктринальной аргументации на принципиально новом уровне. Для этого необходимо изменение ракурса видения не только базовых подходов к новым критериям устойчивости политического строя, но и к оценке инструментария, способного эти критерии претворить в жизнь.
- Внутриполитические задачи и обоснование понятия «макро-категорий». Состояние основных субъектов политического поля.
а). Основное содержание предыдущих периодов с точки зрения «макрокатегорий».
Исходя из того, что доминанта международного фона будет продолжать расти, возникает необходимость выработки таких подходов к новым критериям устойчивости, которые бы соответствовали масштабу их задач и проблем, приходящих извне.
В Казахстане, помимо внешнеполитических факторов влияния, об уровне масштабности говорит и внутренний аспект – после выборов президента РК произойдет окончательная институционализация Н.Назарбаева в качестве Лидера нации, поскольку он впервые будет избран именно в этом качестве.
Контекст проведения президентских выборов, а также в краткосрочной перспективе выборов в Парламент РК, свидетельствуют о дополнительном аспекте усложнения соотношения казахстанских реалий с влиянием «революционного синдрома». Как известно, первая волна «цветных революций» разворачивалась под влиянием повода о несправедливых результатах выборов. В Молдавии, как только президент В.Воронин заставил провести пересчет голосов и этим отобрал повод у многочисленных «революционеров», волна протеста мгновенно утратила всякий смысл. В особенности после того, как Евросоюз приветствовал этот шаг. Сегодня же поводом для революций является долговременное пребывание у власти глав государств. Таким образом, выборы только усиливают фон формальных поводов к протестным выступлениям, включая в политическую повестку сразу два направления возмущения масс.
В таких условиях необходимо выйти на макроуровень поиска того поля, из которого будут исходить основные векторы целеполагания. В ином случае, масса мелкомасштабных критериев рискует увести процесс понимания сути происходящих событий в сторону от достижения реальных целей.
Расшатыванию комплексного видения проблем и задач будет также способствовать непрекращающееся воздействие на Главу государства многочисленных мнений групп влияния, стремящихся увести логику развития в сторону безопасности своих олигархических доменов и в сторону собственных ситуативных интересов.
Анализ предыдущей истории развития Независимого Казахстана говорит о том, что в разные периоды их основным содержанием были:
В начале девяностых – создание и укрепление государства как такового в условиях независимости. Символическим завершением этого этапа можно считать введение 12 ноября 1993 года казахстанской валюты – тенге.
Основное содержание второго этапа – это создание и укрепление главного инструмента социально-экономических реформ в стране – института сильной президентской власти. Хотя в этот период состоялось де-юре реформа казахстанского парламента, все равно это проходило под эгидой основного вопроса – кристаллизации института президентства. Данный период продолжался до президентских выборов 1998 года, закрепивших результаты этапа.
Третий этап характеризовался складыванием основных социальных страт, в частности крупной буржуазии и крупной управленческой прослойки, способных принимать решения на новом уровне. Ключевым характеризующим событием стало публичная репатриация активов фирмы «Трактебель» в 2000 году. Это событие продемонстрировало, что в стране сложился устойчивый слой специалистов, способных нести публичную ответственность за сделки порядка 100 млн.долл. США. Таким образом, публично была осуществлена заявка на существование в стране прослойки, мыслящей крупномасштабными финансово-экономическими категориями и формирования слоя крупных буржуа.
Четвертый этап характеризуется постепенным складыванием в стране среднего класса, характеризующегося тремя основными способностями:
- Способностью осуществлять семейное бюджетирование с накоплениями, т.е. реализующими главную особенность среднего класса – планирование семейного бюджета «не в стык» (когда доходы равны затратам – это характеризуется как бедность), а с годовым видением расходов и с возможностью резервирования средств (для дорогостоящих покупок, мероприятий, отдыха за рубежом и пр.);
- Способностью депонирования средств в банках, причем в пользу именно финансового накопления, против простого «семейного вложения средств» (приобретение недвижимости впрок для будущих поколений, вложение в средства домашней инфраструктуры – автомобили, домашний интерьер, предметы роскоши и прочая);
- Способностью персонального инвестирования, которое системно отличается от корпоративного инвестирования (вложение в чужие и совместные частные инициативы, персональное участие в спекулятивных сделках, игры с валютными курсами и пр.).
Этот этап связан с расцветом индивидуальных квалифицированных и профессиональных продаж услуг – продюсеров, частных консультантов, персональных медицинских услуг, потребление продуктов творчества, искусства, агентов различных профилей, высоко квалифицированного домашнего персонала, педагогических услуг, специалистов пиар и рекламы и т.д. Сложилась т.н. высококвалифицированная индивидуальная самозанятость.
Этот этап закончился катастрофическим обрушением данной прослойки в период кризиса на рубеже 2007-2008 гг. Одной из основных причин этого обрушения является зависимость доходов этой категории среднего класса от государственного заказа, прослойки корпоративного малого и среднего бизнеса и от перераспределения сверхприбылей от крупного бизнеса и коррупционных доходов.
Как ни парадоксально, но системная коррупция сыграла в данный период даже некую положительную роль в становлении данной прослойки, поскольку сверхдоходы от нее перераспределялись на рост качества потребления. При этом именно эта прослойка сформировала в свое время имидж «буйного расцвета» казахстанского общества, поскольку обладала ярко выраженными качествами внешней атрибутики. Через нее складывалось понятие качества жизни и потребления, через это формировалось и основное видимое отличие «казахстанского образа жизни» от аналогичного у стран-соседей по ЦА. Естественно, малый, средний торговый бизнес и сфера услуг всесторонне стремились обеспечить этот новый качественный образ жизни казахстанцев.
Во многом заслуга этого периода в том, что на президентских выборах 2005-го года граждане страны продемонстрировали высокую активность и приверженность президентскому курсу. Но самое главное – показали уровень сознательного выбора политической судьбы страны, который проходил в весьма сложной внешнеполитической обстановке. Ведь 2005-й год стал годом первой волны «цветных революций» на пространстве СНГ.
Выборы 2007-го года стали символическим завершением данного этапа, их итог прошел под флагом вывода из конкурентного поля основных политических институтов власти – бюрократического аппарата, официальных партий, СМИ и групп влияния, стоящих за ними. В сущности, масштабные проблемы внутриполитического пространства сегодняшнего дня являются прямым следствием их результатов. Они сформировали собой нынешний пятый этап развития общества.
Под маркой неконкурентности политических институтов прошла и проходит борьба с последствием кризисных явлений в стране. По сути, сегодня власть обладает только внешними показателями эффективности своих антикризисных программ, в то время как их внутренняя сторона запечатана многослойной монополией интересов внутриполитических акторов. Внутри страны продолжает углубляться основное противоречие современного казахстанского социума – «власть и общество – не партнеры».
Безусловно, в описываемые периоды происходили крупные политические события, которые, казалось бы, являлись определяющими во внутриполитической конъюнктуре. К ним можно отнести появление ДВК в 2001-м году (первый раскол элит), кризис, связанный с гибелью политических фигур – Нуркадилова и Сарсенбаева, взлет группы Алиева с проектом «Асар» (второй раскол элит), а затем исчезновение с политической карты его группы влияния, появление группы зарубежных оппонентов политического строя (Аблязов, Алиев) и т.д. Однако формированием основных обстоятельств преодоления этих кризисов оставалось основное содержании периода, поведение его основных акторов, что послужило базой для успешных (или временно успешных) тактических и стратегических решений власти.
Кризис неконкурентоспособности публичных политических институтов стал причиной сегодняшней ситуации, когда весь их комплекс привел к необходимости принятия Лидером нации «соломонова решения» о досрочных выборах президента РК. Эта политическая кампания достаточно прозрачно демонстрирует завершение предыдущего этапа и начало нового, шестого, в рамках специфики которого, исходя, прежде всего, из прогнозируемого основного содержания, власти предстоит принимать исторические решения по дальнейшему развитию.
б. Бюрократизация как отдельная характеристика современного этапа.
Прежде чем приступить к характеристике основного содержания предстоящего периода в макро-категориях, необходимо отметить роль бюрократического аппарата в Казахстане сегодняшнего дня. К сожалению, многие эксперты расценивают бюрократизацию исключительно через призму канцелярской волокиты, мелкой коррупции, саботирования сути позитивных преобразований, непотизма и т.д. Главное качество сегодняшней бюрократии Казахстана является то, что она по всей вертикали приобрела все признаки слоя с самостоятельными интересами. Причем эти интересы совершенно не имеют созвучия с идеологией правящей группы, а тем более с интересами общества.
В первую очередь это иллюстрируется тем, что за период кризиса бюрократическая система провела собственную масштабную программу перераспределения собственности в стране. Силовые, административные, судебные органы в союзе с банками, формируя временные или постоянные группы по интересам, осуществили и продолжают осуществлять молниеносные программы рейдерства в среде мало-мальски успешного бизнеса. Основным отличием от предыдущих периодов является то, что для осуществления этих операций таким группам не обязательна поддержка «наверху» со стороны олигархий или влиятельных чиновников. Для этого у них достаточно полномочий, информации и силового ресурса.
Сегодня разрушена ранее безупречно действовавшая коррупционная система, когда взятка должна компенсировать неповоротливость и затянутость законных процедур. Складывается ситуация, когда деньги вымогаются обязательно, а преступные обязательства не осуществляются. В таких ситуациях «человек с улицы» остается и без законной справедливости, и без альтернативной. Вовсю практикуется сведение счетов с партнерами путем террора со стороны правоохранительных органов, которые в случае наличия у ответчика денег, действуют крайне энергично в расчете на вымогание у него этих средств.
Моратории на проверки привели к тому, что активность бюрократического аппарата сместилась в сторону окончательного «доуничтожения» предприятий, оказавшихся под ударом кризиса. Как только происходит задержка тех или иных платежей, направляется необоснованная жалоба или заявление в соответствующие инстанции, и к предпринимателю «на законных основаниях» приходят судебные исполнители, налоговики, финансовая полиция, прокуратура и прочая – те, которые были формально отстранены от вмешательства в дела бизнеса мораториями на проверки.
Поведенческий стандарт этих представителей власти – вне всякого гражданского понимания: абсолютно не скрывается корыстная модель поведения. Причем для граждан, не желающих участвовать в незаконных схемах подкупа, открывается следующая перспектива – он может настойчиво выполнить все свои обязательства перед государством, но бюрократия устроит ему откровенный саботаж – не направив вовремя соответствующие документы, не сняв с ареста текущие счета, не отменяя предписаний и так далее. Для любого бизнеса это означает постепенную гибель и маргинализацию.
Бюрократизация коснулась не только госаппарата. Стиль бюрократизированного поведения вовсю распространился на банки, кредитные организации и госструктуры, занимающиеся кредитованием предпринимателей «живыми деньгами» (наподобие «Казагро»). Целью большинства схем стал непременный вывод денег и последующее их расхищение без всякого стремления продолжать, поддерживать или развивать бизнес. Это привело к активизации звена средних банковских и финансовых служащих, которые обросли сетью «псевдо-финансовых консультантов» (а на деле посредников в краже средств), оценочных компаний, «своих людей» в БТИ, ЦОНах, среди судебных работников и исполнителей, налоговиков – всех персоналий, обеспечивающих получение кредитных ресурсов.
Банки фактически организовали для заемщиков «кредитные капканы», которые характеризуются тем, что проводимые реструктуризации долгов на деле означают перераспределение долга в более короткие сроки, что приводит к росту ежемесячных отчислений в размерах, доступных разве что для уровня рентабельности наркоторговли. Руководство банков де-факто не способно справиться с организацией схем вывода денежных средств «средним звеном», что минимум через год приведет к необходимости масштабного уголовного преследования тысяч людей и утере миллиардов тенге.
Самым катастрофическим последствием этой волны бюрократизации стал новый режим накоплений, который устремлен на массовый вывод средств из экономики, нежелание их реинвестировать, поскольку любое ведение бизнеса непременно столкнется с необходимостью противостояния вышеописанным «временным рейдерским группам». А также это обусловлено отсутствием понятия безопасности инвестиции в стране.
Многие эксперты ошибочно приписывают временно возникший рост цен на недвижимость определенной стабилизации. На самом деле вложение в недвижимость связано с тем, что никто не хочет инвестировать в производство или торговлю, которые неизбежно столкнутся с масштабными бюрократическими проблемами и рейдерским террором.
В масштабах национальной экономики все эти обстоятельства приводят к тому, что системная коррупция, обеспечивавшая в «тучные годы» перераспределение средств вниз по вертикали общества, (поскольку осуществлялась внутри страны), резко упала нагрузкой на население, трансформировалась в рост цен, снижение доходов, исчезновение и маргинализацию целых социальных страт. Огромные социальные группы оказались в состоянии невозможности применить свои профессиональные или личные качества. В частности, это касается среднего класса.
Необходимо добавить, что процесс деклассирования коснулся и опорного звена власти – среднего исполнительного звена государственных структур. Большинство из них представляет собой самую продвинутую страту общества, которая в свое время скрупулезно создавала свою принадлежность к среднему классу. В то же время они не являются субъектами, оторванными от общества – у всех есть семьи, инициатива которых пострадала от вышеописанных тенденций. Так или иначе, они оказались причастными к разрушению благополучия семей – либо через ипотечные займы, потребительские кредиты или частное предпринимательство близких родственников.
Все эти тенденции создают комплексное видение самой активной массовой части населения Казахстана, как масштабного слоя, оказавшегося в состоянии «перманентной задолженности». А это фактор является крайне разрушительным для психики, в особенности, если они не видят перспектив выхода из сложившейся ситуации. Примитивные объяснения на уровне «вы сами виноваты, не стоило лезть в кабалу», не удовлетворяет их сознания, и поэтому оно перемещается в сторону изучения всех системных причин собственного кризиса, а в итоге не к социальной, а уже политической протестности.
Таким образом, укрепление государственной вертикали, наделение ее существенными регулирующими полномочиями, по сути, в период кризиса привело к расцвету «негативной прибавочной стоимости» этого процесса. Понятие «государственная служба – лучший бизнес» привело к массовому и уродливому использованию административной силы в целях личного обогащения широчайших слоев общества, фактическому крушению позитивного имиджа государственной вертикали, как созидающего начала. В положении отсутствия какой-либо социально-политической ответственности госаппарата в условиях полной неконкурентности, весь этот негатив уже не непроизвольно, а сознательно экстраполируется на вершину этой вертикали – Президента РК.
Описание процессов бюрократизации не должно ввести в заблуждение, что она определяет основное содержание проблематики периода. К сожалению, она является лишь следствием, но обойти особое рассмотрение этого явления было бы ошибочным.
в. Формулирование основного содержания предстоящего периода.
Основное содержание периода, последующего досрочным президентским выборам, очевидно, будет формироваться на поле общенационального самосознания, то есть сферы внутренней политики. Это поле характеризуется значительным отставанием от остальных – экономики, внешней политики, социальной структуризации. Иными словами, необходимо коренным образом пересмотреть принцип «сначала экономика, а потом политика». Тем более что цикличность кризисов, как главная характеристика капитализма, никогда не позволит решению вопросов экономики находиться в постоянном поступательном развитии. Сегодня социально-политическая ценность экономического или монетарного взгляда на основы благополучия общества «выскочила» из системы ценностей после понимания общественным сознанием всей вариативности проблем капитализма, которые вытащил наружу кризис.
Причины выхода внутриполитического поля на первый план содержатся в двух основных макро-категориях.
Первая причина. С тех пор, как в Стратегии-2030 было осуществлено комплексное целеполагание в политической сфере прошло уже много лет. Фундаментальные программы сегодняшнего дня, какими являются Стратегический план развития до 2020 года и Программа инновационно-индустриального развития Казахстана, содержат лишь несколько чисто политических целевых показателей. И то они даны не через призму управления сферой, а в большей привязке к социально-экономическим показателям. Остальные направления, такие как борьба с коррупцией, реформа правоохранительных органов, законы о демократических процедурах (выборах, общественных объединениях и пр.), напротив, формулировались с точки зрения управления процессами, но не в ракурсе их конечного отражения в общенациональном самосознании.
Общенациональное самосознание состоит из двух основных категорий – общественная мысль и общественное сознание. В нормальной ситуации эти поля находятся в состоянии цикличного взаимовлияния: общественная мысль формирует сознание, которое в свою очередь, рефлексируя, оказывает воздействие на направления развития общественной мысли.
Из этого исходит вторая фундаментальная причина – неконкурентное положение официальной идеологии, ее общественных институтов, привели к значительной уходу реальной политики от публичности, в которой стали доминировать явные признаки абсурда. Это, в свою очередь привело к утрате способности официальной идеологии формировать общенациональное самосознание. Эти же обстоятельства привели к складыванию в стране ситуации, когда Президент был буквально поставлен в ситуацию необходимости принятия «соломонова решения» по досрочным президентским выборам.
Именно политическая сфера начла давать системные сбои, в то время как она является важнейшей частью надстройки, которая аккумулирует в себе все характеристики устойчивости политического строя. Как продемонстрировали арабские события, угрозы сегодняшнего дня исходят именно из проблематики этой сферы, здесь формируются основные движущие силы революции.
Ведь известно, что стабильность ситуации никогда не определяется количеством голосов, которые заявляют, что поддерживают политику правительства и власти в целом. Движущие силы революций никогда не составляли более 5-15 процентов общества, а это значит, что и при 90 процентной поддержке курса успокаиваться нельзя. Об этом свидетельствуют основы истории марксизма и эмпирика текущей международной ситуации.
г. Современное состояние основных акторов публичного политического поля
Сегодня же мы наблюдаем, что Казахстан пришел к этому сложнейшему периоду с политической сферой, находящейся в «развинченном состоянии». Основными признаками этого состояния являются следующие:
Растерянность, в которой приходится действовать партиям в текущей блиц-кампании, привела к тому, что все внутренние противоречия начинают буквально ежедневно вылезать наружу, обнажаться не в самых приглядных формах.
Эти проблемы многоаспектны. В частности, в оппозиции это: личное соперничество; трехлетняя политическая «спячка» (с 2007-го года); ставшее очевидным устаревание фигур лидеров (Байменов, Туякбай, Абдильдин, Калиев); уход ряда фигур «в никуда» (Жандосов, Жукеев, Абдрахманов, Кожахметов, Жаганова); формальная нелегитимность (Козлов), некондиционность и противоречивость политического имиджа (Абилов, Косанов, Касымов); вообще отсутствие лидеров (КНПК) или отсутствие «второго эшелона» публичных политиков (Акжол, КПК).
Партии, осуществлявшие антураж для Нур-Отана, даже несмотря на постоянное стремление присутствовать в информационном пространстве, де-факто превратились в «подпись в коалиции» или в «участника нуротановских мероприятий» (Адилет). Вообще все антуражные партии и движения пустым информационным потоком компенсируют свое полное неумение обеспечивать собственную конкурентность и поднимать конкурентность Нур-Отана.
Согласно совершенно непонятно откуда сложившейся традиции, партии антуража, за редким исключением, «как черт от ладана» бегут от конкурентного соприкосновения с остальными партиями. Это особенно очевидно на фоне активности Е.Ертысбаева, уже много лет (бессменно!) являющегося эффективным спикером власти, способным аргументировано вести дискуссию даже с самым радикальным лагерем оппозиции. Такая активность советника способна одним выступлением заменить десятки бессмысленных шараханий «партий и движений антуража». В то же время, необходимо отметить, что такое «одиночное плавание» уже начинает страдать узостью аргументации и чрезмерной прямолинейностью.
Ситуация, приведшая к необходимости проведения досрочных выборов, особенно ярко свидетельствует об обрушении эффективности и стержневого инструмента политического пространства РК – партии Нур-Отан. Без сомнения сегодня мы имеем дело с парламентским кризисом, стопроцентным «держателем акций» которого является Нур-Отан. Одной из ключевых причин произошедшего является то, что партия окончательно перестала рассматривать народ в качестве своей дискуссионной аудитории. В работе с населением Нур-Отан использует совершенно прямолинейные методы безапелляционной пропаганды, причем пропаганды не своих разработок, а идей власти. А на разработку этих идей в большей степени работает правительство и исполнительная власть в целом.
В погоне за привилегиями, единственной аудиторией Нур-Отана стал Президент РК, к которому партийцы апеллируют с целью получения для себя дивидендов. А это является кардинальной подменой понятий политической жизни, в результате которой, Президента де-факто оставили один на один со сложной ситуацией, как отечественной, так и международной.
Для общественного сознания очевидно, что партия Нур-Отан, обладая огромными административными, организационными и медиа ресурсами абсолютно не обладает институтами формирования общественной мысли и научными структурами изучения общественного сознания. Вся работа в этой сфере сведена к полупропагандистским дискуссиям, а иногда к простому и эпизодическому проведению социологических опросов. Оказалось, что такая фундаментальная наука как социология в руках партии власти сведена к примитивным опросам мнений, абсолютно не вникающих в сложность интерпретаций, политических ожиданий, работы с целыми социальными стратами и их интересами.
Главная партия страны сегодня способна самостоятельно придумать инициативу, провести ее, самостоятельно дать на нее позитивную рецензию, самостоятельно осветить ее в прессе в качестве успешной, самостоятельно обсудить в парламенте, организовать постановку положительной реакции псевдо-масс и сделать вывод о том, что эта инициатива поистине обладает общенациональной ценностью. Показательным примером служат облетевшие интернет псевдо-флэш-мобы, организованные партией в поддержку референдума, вызвавшие буквально истерику в социальных сетях. По одной простой причине, что флэш-мобы по правилам жанра не организовываются и сбор толпы проводится анонимно! В Нур-Отане этот прецедент наверняка попал в позитивную отчетность, и совершенно некому это оспорить.
Принцип пиар управления привел к настолько высокому уровню абсурдизации ситуации во внутренней политике, что реальная политика прочно отстранилась от этой ситуации и ушла в кулуары. Причем искажение смыслов состоит в том, что невидимое управление из кулуаров стало предметом абсолютной очевидности для широких масс!
Практически на публичном поле остались лишь две фигуры, на которые нагружены все функции работы с национальным самосознанием – это Президент РК и эпизодически Е.Ертысбаев. Нур-Отан в текущую гонку заходит инструментом, от имиджа которого Президенту стоило бы держаться подальше, а это просто вопиющий смысловой парадокс.
В течение очень долгого периода произошло сокрытие несостоятельности таких инструментов, как официальные СМИ. Чрезмерная прямолинейность, отсутствие дискуссионного поиска, новых жанров и диалога с аудиторией стали уже «притчей во языцех» практически всех социальных групп, независимо от их политических предпочтений.
Как известно, в современный период, если мнение или информация не находит выхода в открытые СМИ, то она перекочевывает в другие сферы. Традиционно популярная «казахская» сфера слухов и домыслов быстро перекочевала в сети Интернета.
Кулуарность реальной политики в Казахстане привела к неизбежному – жестокой, разнонаправленной войне компроматов. Первоначально привнесенная извне, она быстро стала привлекательной и внутри страны, что катастрофически сказалось на праве элиты быть носителем морально-этических ценностей нации. Причем вся официальная публичная сфера всячески демонстрировала то, что такая война отсутствует, прикрывая резонанс на самые шумные темы откровенной и второсортной пропагандистской мишурой.
Таким образом, из описания состояния основных публичных политических субъектов вытекают следующие выводы:
Главой характеристикой завершающегося этапа, который закончится вместе с досрочными выборами, станет общий тренд для всех партий в стране – обрушение традиционных партийных брендов. Естественно, это произойдет в различной степени и при различном же потенциале к реставрации. Тем не менее, устаревание брендов и персоналий налицо, а это говорит о необходимости формирования новых подходов.
Самым тревожным обстоятельством является то, что в сложившихся условиях ни одна политическая сила не контролирует массовое общественное сознание. Сегодня оно находится в стадии самоорганизации под влиянием социальных сетей. Причем безлидерский характер этой самоорганизации абсолютно не свидетельствует о слабости этого фактора. Главное — общественное сознание, независимо от сложившейся политической системы, самостоятельно вырабатывает собственную систему оценок и ценностей, из которого проистекает система отношения ко всему происходящему.
Сказывается ли это на состоянии контроля над общественным сознанием Президента, как основной и самостоятельной политической силы казахстанского общества? Безусловно, да, причем негативно, поскольку между обществом и Главой государства неизбежно стоит вся идеологическая система, зацикленная в собственном порочном круге неконкурентности, которая также неизбежно транслирует на него собственное мифотворчество. А это, безусловно, переводит обстоятельства в разряд фундаментальных угроз. Плохая управленческая система в области идеологии обречена на сбои и соответственно забирает у президента формирование политической повестки дня.
При этом важнейшим обстоятельством является то, что с 2005-го года в стране появилось качественно новое поколение избирателей – студентов, молодых людей — произошло взросление вчерашней молодежи, пополнившей средний класс, самозанятых и бедные слои населения. А методы общения с ними либо безнадежно устарели, либо откровенно подменены кампанейщиной.
Де-факто общественное сознание в сетях проходит стадию интенсивного самообразования, самоопределения и самоорганизации и никакие точечные меры, способные сохранить эту среду в поле стабильности, не будут иметь долгосрочного эффекта. Только комплекс мер, обладающих фундаментальным характером способен захватить внимание, интерес интернет-сообщества, а соответственно и раскрыть потенциалы партнерства с властью.
- Пути выхода из сложившейся ситуации.
Исследование интернет-ресурсов и социальных сетей позволяет говорить о достаточно высоком уровне патриотизма казахстанцев. В обсуждениях проблем явственно присутствуют признаки определенного иммунитета как к западной пропаганде, так и к целевым провокациям «зарубежного бюро оппозиции». Тем не менее, утверждать, что эта среда абсолютно индифферентна к внешнему влиянию, будет чересчур самонадеянным. Об этом свидетельствует эмоциональный взрыв, вызванный «китайским заявлением» Р.Алиева.
Вне всякого сомнения то, что сегодня возникает кардинально иное видение политической роли «людей у компьютеров», во всяком случае зарубежные события продемонстрировали, что это не просто «толпа бездельников». Тем не менее, не стоит переоценивать всеобщность их роли в социальных потрясениях. Ведь эти потрясения происходят все же на реальных улицах. Сети обладают способностью создания первоначальной протестной волны, которая все же, в конце концов, неизбежно попадает в чьи-то реальные организующие руки.
Пока ситуация не упущена, а в электоральный период состояние дел будет стремительно меняться, необходимо воспользоваться платформой патриотизма и иммунитетов, о которых говорилось выше. При этом нужно категорически избегать «воздушных инициатив», наподобие фонтанирующих идей К.Масимова о 16-битном интернете или о переносе туристических потоков арабских стран в Казахстан.
В обществе произошел резкий скачок от традиционного абсентеизма и аномии к массовому усилению радикализма. И это говорит о том, что необходимо устойчивое видение путей, как эта радикальная волна может быть «оседлана» и подвергнута эффективному косвенному управлению. При этом предстоит решительно списать старые «секретные методы, о которых известно всем». Сегодня возлагать надежды на то, что согласно мнению Ертысбаева, Гани Касымов кандидат от КНПК будут «играть на поле протестности» не имеют смысла. Их шансы объективно равны нулю, потому что они «секретные, но очевидные проекты» АП.
Выше указывалось, что для достижения таких задач необходима подготовка и реализация масштабной и комплексной программы в сфере регулирования общенационального самосознания. И эта программа, безусловно, должна пройти под флагом либерализации политического поля в стране. В то же время в канун юбилея М.Горбачева становится очевидно и то, что либерализация без системного целеполагания может привести и коллапсу государства. Тем не менее, не осуществлять преобразований – еще более гибельный сценарий.
Программа должна обладать четкими параметрами и показателями успешности и эффективности, а также обладать вариативностью сценариев (планы «А», «Б»). Ее основными чертами и сценарной последовательностью должны стать следующие этапы и задачи:
- Публичное объявление Президентом нового назревшего этапа преобразований в политической сфере.
Цель: решительное получение инициативы в свои руки (именно Президента, а не политинститутов).
Тональность: Это активное решение, а не под давлением обстоятельств.
Суть заявления: не программа конкретных действий, а поручение политическим институтам осуществления поиска конфигураций либерализации. Нур-Отан сознательно ставится в один ряд со всеми партиями. Не выдвигать инициативы создания центральной диалоговой площадки (типа НКВД) Партия пусть сама находит диалоговые решения. Апелляция и к официальным зарегистрированным партиям и НПО. Решительная фильтрация кампанейских предложений.
Важная подцель: Политическому абсентеизму и аномии, а также радикализму необходимо противопоставить не бурную и массовую политическую активность, а разноплановую «политическую занятость». Народ оказался оторванным от политики «по сути», которая сегодня ограничена узким кругом персон, даже не политических течений.
- Инициатива, направленная на определение modus operandi правительства: Разработка и введение системы общественно-политических показателей в развитии всех сфер развития общества.
Цель: сигнал обществу, что вектор политических преобразований стал определяющим во всех сферах общественной жизни.
Суть системы показателей: Общественно-политические показатели учитывают: на 60 % мнение общества об успешности деятельности ведомства, на 20 % – мнение профессионалов, с учетом мнения самого ведомства, на 20 % – мнение экспертного сообщества. Проводится силами социологических центров.
Тональность: система позволяет избежать бюрократической трактовки успехов, подмены понятий эффективности. Особую силу комплекс имеет в оценке работы судебной и правоохранительной систем, поскольку только такие показатели способны объективно ответить на вопросы типа: искоренена ли коррупция в данной отрасли? Эффективны ли услуги, оказываемые населению, ЦОНы? Какова степень бюрократизации налоговых органов? И так далее. Таким образом в президентской доктрине государственного строительства создается комплекс конкретных политических целевых показателей различных отраслей, чем восполняется программный пробел.
Подцели: развитие исследовательских центров по изучению общественного сознания, открытие их при госорганах, партиях. Создание конкурентной среды в этой сфере – спора за объективность оценки.
- Создание необходимых условий для того, чтобы продолжить логическую институционализацию президента как Лидера Нации. Под ней подразумевается выход Главы государства из партии Нур-Отан и реставрация президентского института в качестве единственного политического авангарда нации.
Цель: Многопартийность парламента в будущем является практически неизбежной необходимостью. В таких условиях позиционирование Президента в одной партии нарушает базовый смысл общенационального лидерства. Таким образом, институт Лидера нации должен пройти свою дальнейшую эволюцию.
Подцель: снижение зависимости института Лидера нации от одной политической группы. Расширение вариативности для Президента в формировании устойчивой политики преемственности в стране.
Тональность: Безусловно, такой шаг может быть предпринят исключительно в том случае, если в стране установится устойчивая, конструктивная во взаимной конкуренции доминанта по меньшей мере двух надежных политических партий. Особо важным моментом является риск обрушения Нур-Отана в случае публичной заявки Президента о выходе из нее. Этого ни в коем случае нельзя допускать, поэтому для партии ниже предлагаются программы укрепления устойчивости. Очень важно, чтобы к моменту такого решения были подготовлены и другие политические партии. А учитывая их сегодняшнее «аховое» положение, кампания по регулированию партийного поля будет проходить в крайне сложных условиях.
Комментарий: Непременным условием для осуществления общенациональной институционализации Лидера нации является закрепления за ним статуса носителя ценностных, гарантом примата морально-этических ценностей в государственном управлении на всех уровнях, о чем обществу дается четкий сигнал. Фактически речь идет об изменении этического фона общества, прежде всего государственного аппарата, без которого не преодолеть явлений «новой бюрократизации», коррупции и паразитического, временщического отношения к государственной службе.
Еще один важнейший комментарий: Создание в стране конкурентного партийного поля будет реальным только на основе прохождения других партий в парламент. А это автоматически означает снижение процентов проголосовавших за Нур-Отан. В этом случае выход Лидера нации из партии позволит ему дистанцироваться от такого очевидного «неуспеха» правящей партии. Более того, позволит даже увеличить степени маневрирования, поскольку теперь потеря процентов не будет экстраполироваться на Президента.
- Укрепление партии Нур-Отан и подготовка ее к реализации п.3
Цель: Избежать обрушения партии, а напротив, превращение ее в реально сильный политический инструмент, ориентированный не на интересы бюрократии, а на формирование устойчивой и широкой социальной опоры.
Пути реализации: Партия должна сыграть центральную роль в установлении примата ценностного управления страной Лидером нации. Поэтому ее надо укрепить сильными и резонансными программами самостоятельного звучания, прежде чем прозвучит решение о выходе ЛН из нее.
Первая программа: Показательная борьба с проявлениями культа личности в стране. Реально за ней будет стоять только очищение пропаганды Президента от излишеств, но сама постановка вопроса будет обладать широкой резонансной силой. Доктрина борьбы с культом и культами по всей вертикали крупных госслужащих должна быть озвучена первым заместителем, желательно вновь назначенным, в качестве первого и главного поручения Лидера нации. В первую очередь проводится очищение пропаганды деятельности Президента от излишеств. В партии создается Дисциплинарный совет, который постепенно на передний план выводит публичное порицание группы действительно зарвавшихся фигур из центральных и региональных органов и постепенно спускает кампанию «вниз». Личный пример Президента произведет сильнейшее воздействие на поведенческий modus представителей истеблишмента, но главное – получит резонанс и поддержку широких слоев общества.
Вторая программа: Партия Нур-Отан провозглашает возврат к социал-демократической платформе партии. Самое интересное то, что именно Нур-Отан наиболее соответствует этому статусу по важнейшему организационному признаку – наличию финансирования через взносы членов партии. Известно, что ОСДП вообще этому признаку не соответствует, так как финансируется из одного-двух источников. Это программу необходимо довести до вступления в Социнтерн, чтобы окончательно отнять платформу у ОСДП. После выхода ЛН из партии Нур-Отан будет обладать прочной платформой с наиболее гарантированной массовой популярностью.
Третья программа: Нур-Отану, как правящей партии (а таковой она должна остаться и после 2012 года), отдается право, чтобы акимы областей, перед назначением проходили процедуру обязательного получения рекомендации от партии. Для этого разрабатывается соответствующая процедура заслушивания претендентов. Несмотря на то, что она будет чаще всего иметь символический характер, этот символизм (в другом понимании этого понятия) как раз и необходим. Он может быть усилен тем что процедуру будет проходить даже не один претендент, а несколько, чтобы создать прецеденты конкурентного получения рекомендации.
- Создание конкурентной среды в партийном пространстве.
Цель: Создание устойчивой и сбалансированной политической системы, тяготеющей к двухпартийной схеме, способной обеспечить максимальную устойчивость института Лидера нации. Вообще-то классическая политология считает, что главным и необходимым фундаментом двухпартийности является мажоритарная система выборов парламента. Однако к этому вопросу можно перейти только в будущем. Поскольку это касается конституционных изменений, целесообразность которых в предстоящую электоральную кампанию отсутствует.
Подцель: моделирование итогов предстоящих выборов и состава Мажилиса.
Форма: создание условий для развития партии № 2 и 2-3 миноритарных партий. В качестве оживления конкуренции – «второй партии» определяется перспектива получения поста вице-спикера в будущем Мажилисе.
Тональность: власть заинтересована в наличии в стране внятной оппозиции, поэтому в открытую, а не исподволь поддерживает развитие альтернативного политического видения. Перерегистрация ОСДП «Азат», в качестве демонстративного «шага навстречу» открытой конкуренции.
Миноритарии: ряд активных сигналов, что любая легитимная партийная деятельность приветствуется. Для это у группы в качестве оживления конкуренции – снижение проходного порога до 3 %.
Комментарий: Вопрос о моделировании «второй партии» является очень сложным, исходя из сложившегося обрушения брендов и персональных имиджей. В то же время это создает возможность начать моделирование практически с «чистого листа». На существующем партийном пространстве чрезвычайно близко к такой потенциальной модели стоит партия «Акжол».
Этот бренд, несмотря на очевидные признаки стагнации, тем не менее, инерционно обладает высоким процентом узнаваемости и даже фантомного доверия. Полный уход из партии команды Байменова и замена ее на более молодых и энергичных, способно относительно быстро привести партию к достижению необходимой кондиции, которая позволила бы рассматривать ее в качестве одного из прочных столпов будущей политической системы. В таком контексте запуск этой команды в электоральный цикл с целью ведения ею многовекторной конкуренции, как с Нур-Отаном, так и с ОСДП «Азат», способствовал бы появлению крепкого и конкурентоспособного сегмента парламентаризма.
Платформа партии могла бы измениться в сторону республиканской. В таком случае моделируемая конкуренция между ней Нур-Отаном становится близкой к классической. Желательно, чтобы эта партия получила более молодой кадровый состав, чтобы привлечь к себе ту аудиторию, которая является сегодня стратегической и целевой – молодежь. Однако, даже при молодости, республиканский формат всегда будет тяготеть к консервативному толку, поскольку во главу угла своей доктрины должен поставить буржуазный канон «неприкосновенности частной собственности» и защиту республиканского строя.
Партия должна практически сразу объявить о создании теневого правительства, причем ставку делать не на уже статусных персон, а на молодых и перспективных, что психологически сразу поставит партию в положение догоняющих. Но в то же время это проект создаст дополнительную интригу и не пройдет мимо широкого общественного резонанса.
Поле миноритариев чрезвычайно важно при моделировании состава нижней палаты, поскольку оно и будет представлять собой в идеале зону конкуренции между крупными субъектами за проведение решений. Снижение проходного порога, при том, что выглядит как уступка, на деле наоборот способно искусственно измельчить партию. Поскольку, если проходит 7 человек, то это уже полноценная фракция, а если два – то это настолько мало, что их прохождение имеет смысл только в иногда возникающих коллизиях голосования.
* * * * * * * *
Таково общее описание программ, которые могли бы в краткосрочной перспективе ответить на вызовы сложившейся ситуации в поле общественного сознания в соответствии с прогнозированием основного содержания периода.
Важно сейчас определить основные векторы преобразований, которые на сегодня выглядят неизбежными в силу ряда важных и, в некоторой степени, чрезвычайных ситуаций, если говорить о сложном международном фоне. И основными задачами будут являться – решительный захват инициативы на основе использования преимущества, предоставляемого возможностями изучения природы новых революций пост-фактум.
В то же время главным сегментом изучения является собственная казахстанская специфика формирования массового сознания, наличие в нем явных признаков революционного сознания и его потенциальных движущих сил. По сути, в предстоящий период будет закладываться дальнейшая тональность развития казахстанского общества, основные тренды его политической надстройки.
(2011г.)
Несмотря на то, что в настоящий момент происходит лишь старт предвыборной президентской гонки, который проходит в непростых условиях, сегодня возникает необходимость разработки моделей поствыборной ситуации в партийно-политическом поле Казахстана.
Основные сложности текущего периода обусловлены рядом причин, однако они в этом документе не рассматриваются, поскольку требуют самостоятельного исследования. В то же время необходимо обозначить самую общую и принципиальную причину возникновения ситуации, носящей черты политического кризиса, в особенности в партийно-парламентской сфере. Эта причина – утеря пропрезидентских общественно-политических институтов способности действовать в конкурентном поле.
Такая ситуация стала обратной стороной медали тотального позиционного доминирования обществе, так и не переросшего в тотальное доминирование в умах казахстанцев. Это продемонстрировал фактический раскол общественного мнения, сложившийся вокруг вопроса о референдуме, когда позицию «против» разделили даже часть уверенных сторонников Президента. В результате кризиса неконкурентности реализовался самый негативный вариант, когда сеть общественно-политических институтов стала «поедать» самое себя сомнительными и непросчитанными инициативами. А главное – инициативами, носящими не фундаментальный, а ситуационный характер, ввиду того что в их основе лежат ситуативные личные интересы ряда персон, стремящихся к увеличению или укреплению личного ресурса влияния и власти.
По сути, общественно-политическая среда включилась в борьбу за приобретение неприсущих им ресурсов власти и прав прямого управления процессами (чем должны заниматься в стране Президент, правительство и вся исполнительная вертикаль), вообще забросив более сложное поле косвенного управления общественным сознанием в стране.
Причинам возникновения ситуации, в которой Президент вынужден принимать непростые решения не только на отечественном, но и на международном фоне, необходимо в дальнейшем посвятить массу исследовательской работы. Сегодня же, поскольку электоральная кампания обретает черты «кампании-блиц», нужно тщательно сформулировать те цели, которые позволят по завершении говорить об одержании многоаспектной победы. К таким аспектам нужно отнести, помимо электорального, психологический и позиционный аспекты, что, собственно, в комплексе и составляет достижение самого убедительного уровня легитимности.
Таким образом, моделирование поствыборного пространства преследует одну определенную цель – каким должен быть расклад политических сил в стране, в частности, в партийном поле, которого необходимо достичь в результате выборного цикла. Ответить на вопрос: «Какая ситуация должна сложиться в итоге?» Собственно, это и сформулирует основные цели кампании, и как одно из главных следствий – тональность проведения электорального периода.
Какие стартовые проблемы фундаментального характера можно обозначить сейчас?
Первое. Кандидат Н.Назарбаев впервые будет проходить электоральную кампанию не в качестве Президента РК, а в статусе Лидера нации. Это психологически программирует конечный результат на уровень 90 процентов и выше. Это не «президентский процент», а «процент Лидера нации», символизирующий собой безоговорочное доминирование Н.Назарбаева в политике РК.
Такая установка программирует поведение модераторов процесса на чрезмерную инициативу по «расчищению» конкурентного поля, которое и без того находится в чахлом состоянии. В результате может сложиться крайне репрессивная тональность проведения выборного цикла. Но, что самое опасное – в результате собственный высокий процент, набранный Президентом, будет растворен и нивелирован таким радикальным подходом.
Второе. Нестабильность в арабских странах прочно завладела сознанием казахстанцев, потому что там речь идет о бессменных руководителях, одерживавших «90-процентные» лидерские победы в течение двух или трех десятков лет правления. Вне всякого сомнения, такие ассоциации и высокий результат выборов будет намеренно и усиленно экстраполироваться на Президента РК.
Характер арабских протестов обладает еще и такой спецификой, что это не борьба альтернатив, как это имело место в Украине (Ющенко против Януковича), в Грузии (Саакашвили против Шеварднадзе) и Иране (Мусави против Али Хаменеи и Ахмадинежада). Скорее это кыргызская версия – «принципиально против лидера». В такой ситуации стандартное апеллирование к тому, что Н.Назарбаеву нет альтернатив (то есть расчет на то, что отсутствие альтернативной персоны автоматически снимает проблему) значительно теряет свою силу убеждения, а при этом, официальные пропагандисты не могут изобрести ничего нового.
В целом, «лидерский процент» в своем международном звучании содержит в себе опасность для Н.Назарбаева встать в один ассоциативный ряд с теми лидерами арабского мира, судьба которых сейчас решается весьма негативно. При этом может объективно оказаться так, что кандидат Н.Назарбаев наберет этот «лидерский процент» чрезвычайно легко, и актуальным станет «модерирование процента вниз». Но в этом случае «лидерский процент» окажется ниже «президентского», который кандидат Н.Назарбаев набрал в 2005-м году. Такая коллизия безусловно станет предметом массового обсуждения по результатам выборов.
Третье. Сегодня, вне всякого сомнения, сложилось безусловное лидерское доминирование действующего Президента на пороге предстоящей выборной гонки. Это позволит ему, безусловно, оставить далеко позади всех и любых участников гонки. Но, если рассматривать политические итоги в целом, и видеть его не односторонне, а с точки зрения общего результата, то сегодня очень четко начинает проявляться новая проблемная зона.
После президентских выборов на первый план политического пространства РК выдвинутся парламентские выборы. Перед модераторами процесса станет задача моделирования эффективного состава Мажилиса, который, несмотря на свою пестроту, не только смог бы сохранить эффективность своей деятельности, но и не снизил бы темпы преобразований в стране, и не утонул бы политиканских дискуссиях. В этом случае возникнет необходимость работы с исторически сложившимся в стране спектром политических партий и персонами, как возглавляющими их открыто, так и стоящими за ними.
Казалось бы, это является темой будущего электорального цикла, но объективно основы новой конфигурации уже закладываются сейчас. Причина – ситуация, в которой оказались партии сегодня – позволяют сделать предположение, что ход президентских выборов и их результат де-факто приведут к окончательному смысловому вымиранию практически всех существующих партийных и персональных брендов сегодняшнего дня.
Это произойдет по следующему ряду причин:
Растерянность, в которой приходится действовать партиям в текущей блиц-кампании, привела к тому, что все внутренние противоречия начинают буквально ежедневно вылезать наружу, обнажаться не в самых приглядных формах.
Эти проблемы многоаспектны: в частности, в оппозиции это личное соперничество; трехлетняя политическая «спячка» (с 2007-го года); ставшее очевидным устаревание фигур лидеров (Байменов, Туякбай, Абдильдин, Калиев); уход ряда фигур «в никуда» (Жандосов, Жукеев, Абдрахманов, Кожахметов, Жаганова); формальная нелегитимность (Козлов), некондиционность и противоречивость политического имиджа (Абилов, Косанов, Касымов); вообще отсутствие лидеров (КНПК) или отсутствие «второго эшелона» (Акжол, КПК).
Партии, осуществлявшие антураж для Нур-Отана, даже несмотря на постоянное стремление присутствовать в информационном пространстве, де-факто превратились в «подпись в коалиции» или в «участника нуротановских мероприятий» (Адилет). Вообще все антуражные партии и движения пустым информационным потоком компенсируют свое полное неумение обеспечивать собственную конкурентность и поднимать конкурентность Нур-Отана. Это происходит потому, что согласно совершенно непонятно откуда сложившейся традиции, партии антуража, за редким исключением, «как черт от ладана» бегут от конкурентного соприкосновения с остальными партиями. Это становится особенно очевидно на фоне активности Е.Ертысбаева, уже много лет (бессменно!) являющегося эффективным спикером власти, способным аргументировано вести дискуссию даже с самым радикальным лагерем оппозиции. Эта активность советника способна одним выступлением заменить десятки бессмысленных шараханий «партий и движений антуража». В то же время, необходимо отметить, что такое «одиночное плавание» уже начинает страдать узостью аргументации и чрезмерной прямолинейностью.
Ситуация, приведшая к необходимости проведения досрочных выборов, особенно ярко свидетельствует об обрушении эффективности и стержневого инструмента политического пространства РК – партии Нур-Отан. Без сомнения сегодня мы имеем дело с парламентским кризисом, стопроцентным «держателем акций» которого является Нур-Отан. Одной из ключевых причин произошедшего является то, что партия окончательно перестала рассматривать народ в качестве своей дискуссионной аудитории. В работе с населением Нур-Отан использует совершенно прямолинейные методы безапелляционной пропаганды, причем пропаганды не своих разработок, а идей власти. А на разработку этих идей в большей степени работает правительство и исполнительная власть в целом.
В погоне за привилегиями, единственной аудиторией Нур-Отана стал Президент РК, к которому партийцы апеллируют с целью получения для себя дивидендов. А это является кардинальной подменой понятий политической жизни, в результате которой, Президента де-факто оставили один на один со сложной ситуацией, как отечественной, так и международной.
Нур-Отан в текущую гонку заходит инструментом, от имиджа которого Президенту стоило бы держаться подальше, а это просто вопиющий смысловой парадокс.
Комплекс сложившихся факторов позволяет сделать вывод о том, что модерирование внутриполитического общественно-политического пространства по крайней мере три года проходило в инерционном режиме, скорее в «режиме спячки», с ситуативным пробуждением и спонтанным реагированием на возникающие ЧС.
Таким образом, поскольку Нур-Отан оказался в весьма двусмысленном положении из-за парламентского кризиса, можно утверждать, что бренд партии также находится в ситуационном «пике». Сегодня, в разгар электоральной кампании, внимание от этого факта будет значительно отвлечено в сторону массы организационных мероприятий, которую в большей степени проведет Администрация. При этом, «кома бренда» не исчезнет, а лишь перейдет в замороженное состояние на период выборов.
Какие вопросы поднимает данный комплекс проблем?
На первый план выходит вопрос об эффективности всей идеологической системы президентского лагеря, прежде всего в том, что абсолютно негодными оказались показатели, по которым осуществлялась оценка их деятельности.
Одним из печальных последствий стало то, что содержание пропаганды стало восприниматься самими пропагандистами не в качестве инструмента, а в качестве реальной содержательности процессов. А это совершенно непрофессиональный подход. О том, что Нур-Отан проводит какую-то мало-мальски известную работу по фундаментальным теоретическим разработкам, вообще неизвестно широкому электорату.
Партией фактически свернута такая естественная политическая деятельность, как изучение общественного мнения. Вообще эта культура почти утеряна, при том, что она является ключевой для идеологической сферы. Фундаментальная социология с детской наивностью практически заменена на эпизодические легковесные опросы общественного мнения, которые в отрыве от глубоких научных исследований не дают для понимания динамики настроений общества ровным счетом ничего. Ведь известно, что стабильность ситуации никогда не определяется количеством голосов, которые заявляют, что поддерживают политику правительства и власти в целом. Движущие силы революций никогда не составляли более 5-15 процентов общества, а это значит, что и при 90 процентной поддержке курса успокаиваться нельзя. Это же основы истории марксизма!
В течение очень долгого периода произошло сокрытие несостоятельности таких инструментов, как официальные СМИ. Чрезмерная прямолинейность, отсутствие дискуссионного поиска, новых жанров и диалога с аудиторией стали уже «притчей во языцех» практически всех социальных групп, независимо от их политических предпочтений.
Как известно, в современный период, если мнение или информация не находит выхода в открытые СМИ, то она перекочевывает в другие сферы. Традиционно популярная «казахская» сфера слухов и домыслов быстро перекочевала в сети Интернета.
Согласно последним данным Агентства РК по информации, количество потребителей Интернета в Казахстане достигло 4,3 млн.! Даже при том, что это валовой показатель, мы имеем порядка 2 млн. активных пользователей социальных сетей и информационных порталов. Если раньше интернет-сегмент считался определенной периферией, то сегодня ситуация кардинально изменилась. По крайней мере, по вхождению интернета в жизнь мы наверняка опережаем такие страны, как Тунис! Но при этом известно, что в Тунисе именно социальные сети сыграли роль организующего начала массовых выступлений.
На текущий момент можно уверенно констатировать, что многочисленный лагерь противников референдума сложился именно в интернет-среде и в достаточно быстрые сроки. Наблюдения показывают, что за не такой уж и продолжительный период обсуждения, категория людей, общающихся в социальных сетях, резко политизировалась, независимо от социального положения и сферы интересов. Температура обсуждения политических вопросов не уменьшилась, и по мере продвижения электоральной кампании не будет падать.
Однако важнейшим вопросом, которую поднимает проблема крушения брендов в стране, является обеспечение партийно-политической системой стабильного и безопасного баланса в обществе. Очевидно, что президентская идеологическая вертикаль, включающая в себя профильные госструктуры, громоздкую массу партийных и общественных объединений, проправительственных НПО, официальных СМИ, в период принятия ключевых политических решений не только не способна обеспечить фундамент для Президента, а наоборот – может создать ему массу самовоспроизводящихся проблем.
Одновременно с этим лагерь оппонентов, способных к взаимовыгодному партнерству, так и не возник, не приобрел своего социального фундамента, хотя именно он должен играть роль стабилизирующего фактора в прямой борьбе с радикальной оппозицией. А главное: стабилизировать общество в периоды роста антилидерских безальтернативных настроений (подобных арабским), которые даже и радикальную оппозицию не поставят ни во что.
Поэтому самой негативной тональностью, которая может возникнуть на выборах станет следующая:
Потерпев фиаско в вопросе референдума, идеологический цех Президента в стремлении реабилитироваться будет стремиться к тактике «выжженного поля». Поскольку способность конкурировать за доминирование в общественном сознании утеряно, возникнет стремление убедить в неконкурентном устранении всех и вся. Это будет усиливать необходимость таких как Абилов увеличивать радикальную риторику, хотя ему стратегически необходимо именно выстраивание партнерства с властью. Он всячески будет подавать сигналы власти, что радикальная риторика применяется им лишь для осуществления контроля над радикализмом. Это партнерство ему необходимо в будущем, чтобы получить себе благосклонность для вхождения в парламент.
Однако ОСДП «Азат» сильно преувеличивает, утверждая, что может контролировать радикальную риторику. На деле влияние «Азата» в этой среде ничтожно. В определенный момент радикализм легко выйдет из-под контроля «Азата», что превратит его в абсолютно бесполезный инструмент. Для ОСДП «Азат» это фактически неизбежный сценарий, поэтому этот бренд уже поставлен в условия неизбежности вымирания. Причем независимо от того, будет власть «выжигать поля» или нет. «Азату» нужны реальные голоса, а их он получит только у носителей антивластных настроений. Не исключено, что, если рост протестных настроений вдруг окажется беспрецедентным, он вообще примет решение «ва-банк» и пойдет уже на действительное расшатывание ситуации в стране. Тем более, что блок «Народовластие» объявил о своем бойкоте выборам, а это на практике означает, что все организационные силы «Алги» и коммунистов будут работать на Абилова (как это было в 2007 году – на ОСДП).
К сожалению, комплекс проблем приобрел неожиданно столь фундаментальный характер, что одномоментно, да еще в разгар важнейшей политической кампании их не преодолеть. В то же время запас прочности президентского электората позволяет испытывать уверенность в том, что если в довольно быстрые сроки внести корректировки в негативные тенденции, то возможность обуздать внутренние для президентского лагеря проблемы высока. Прежде всего потому, что по крайней мере во властной вертикали еще сохраняется традиционная дисциплинированность.
Гораздо сложнее с лагерем конкурентов, который изучил все промахи власти и готовится их успешно эксплуатировать. Отказ Байменова от участия в гонке серьезно обнажил ряды «серединного лагеря». Эта большая потеря для расклада в списке кандидатов. В частности, если Президент изберет сценарий отказа от участия в агитации, не будет внятного кандидата, который бы обеспечивал контролируемое поступательное движение событий в ходе выборов. Опять же Байменов в предыдущие выборы был главной персоной «признания поражения», а это немаловажный аспект.
Своим отказом от участия в выборах Байменов тоже поставил бренд Акжола на грань полного обрушения. Хотя этот бренд, несмотря на поражения, все-таки «тлел» на определенном стабильном уровне, существует вероятность того, что в выборной кампании будет происходить чрезвычайно высокая динамика изменения общественного сознания – так сказать более резкого избавления от иллюзорных вещей. Потому что, во-первых, выборы пройдут на сложном международном фоне, а во-вторых, с 2005-го года появилось качественно новое поколение избирателей – студентов, молодых людей – произошло взросление вчерашней молодежи, пополнившей средний класс, самозанятых и бедные слои населения.
Сейчас де-факто можно говорить о том, что партии, в задачи которых входила косвенная поддержка Президента, просто самопроизвольно сбросили с себя эту задачу, даже не задумываясь об оголении фронтов. Это лишний раз подчеркивает их весьма ограниченное понимание партнерства и подверженность ситуативным решениям, а значит их принципиальную ненужность для власти.
Введение в список кандидатов ряда декоративных персоналий, чьи функции осуществляли в разное время Абылкасымов, Касымов и Елеусизов, не способны обеспечить полноценный событийный ряд. В то время как Президент традиционно будет двигаться в параллельном пространстве, он будет апеллировать к своему ядерному электорату, а поле радикальных, радикализующихся, протестных разного уровня останется вдали от регулятивных инструментов. А сегодня последствия социального раскола по вопросу референдума свидетельствует о том, что этим категориям будет необходимо уделить гораздо большее внимание. Во-первых, потому что они были искусственно разбужены дискуссией по референдуму и прошли этап «пропускания политической позиции через себя», во-вторых, потому что динамика перехода из одной категории в другую очень высока – причем в сторону радикализации.
Феномен «Руханият».
В сложившейся ситуации одним из интересных субъектов политического поля становится партия «Руханият», в недавнее время осуществившая ребрендинг политической марки из «партии интеллигенции» в партию «зеленых». «Зеленые» и раньше присутствовали на политическом поле, но методы Елеусизова настолько морально устарели, что его не спасает даже статус кандидата в президенты.
На сегодняшний день партия находится в стадии практически «чистого листа». Единственное, что есть в арсенале партии – это новое лицо Председателя Серикжана Мамбеталина, его знание и понимание современных технологий и принципов существования «зелеными» движениями, существующими на Западе. Идеологический фон партии, однако, не ограничивается экологической тематикой. Наследие старого «интеллигентского Руханията» позволяет вовсю использовать риторику духовности, гражданственности, патриотизма и ориентироваться на ряды культурной элиты Казахстана. Пока в данном направлении существует лишь видение проблем оралманов. На данном направлении в партии существует даже закрепленный Заместитель председателя Жаналтай Бешир.
Один из социальных приоритетов партии – ориентир на молодежь, ее информационную среду и организационный потенциал. В частности, в устах Мамбеталина это звучит как «я в партии должен быть самым старым».
Партия уже обрастает партнерскими отношениями с рядом НПО и общественных объединений экологического профиля. В частности, существует договоренность с О.Сулейменовым о переходе движения «Невада-Семей» под крыло партии.
В плане организации финансирования партии – положение более чем стартовое. Вариативность поиска финансов значительно сужается «зеленой» спецификой – экологическая партия не может открыто финансироваться крупными корпорациями (это против принципов «зеленых» в мире), а они в Казахстане составляют основную массу организаций, могущих себе позволить финансирование партии. Кстати, этот принцип нарушается Елеусизовым, поскольку спонсором «Табигата» выступает «Казтрансгаз».
В международном плане партия способна войти в единую зонтичную структуру Европейской партии «зеленых», что дает ей право использовать этот бренд на выборах и в повседневной деятельности.
Резюмируя описание партии, можно констатировать, что «Руханият» в потенциале может стать классической «партией центра» в Казахстане. Прежде всего, наличие влиятельных зеленых вообще является признаком высокого цивилизационного развития общества той или иной страны. В то же время «зеленый профиль» априори предполагает встроенность партии в легитимную среду, поскольку радикализация по политическим мотивам лишает ее всякого смысла к существованию. Ведь профиль партии – защита экологических интересов нации в СМИ, на общественно-политических площадках и в рамках существующей судебно-правовой системы.
В то же время, духовно-патриотическое наследство предоставляет Руханияту возможность неограниченного идеологического маневра в рамках гуманитарных вопросов. При этом она может легко отказываться от чересчур политизированных резюме, высказывания которых постоянно требуется от партий классического профиля.
Единственный серьезный недостаток – это фактическая молодость бренда к моменту нынешней президентской гонки. Может ли партия развернуться и стать полноценным участником политической кампании в течение всего лишь 2 месяцев? Более того, понести бремя достаточно сложных политических ролей. В принципе, при реализации ряда условий сможет.
То, что к грядущему парламентскому циклу Руханият способен подойти с высокой степенью готовности – в этом практически нет сомнения. Но подготовку бренда целесообразно было бы осуществить уже сейчас. На фоне того, что «центристские бренды», которые обкатывались в течение многих лет, неизбежно пришли к рейтинговому «пике», необходимо быстро дать старт свежему проекту «новой политической формации» – способной оперировать на поле растущих генераций избирателей. Этот свежий проект должен обладать гарантированно центристской спецификой, потому что партии именно такого профиля и служат необходимым элементом стабильности политической системы, полем для политических компромиссов.
Из вышеописанного следует рекомендация использовать то, что проект Зеленой партии «Руханият» находится в стартовых условиях и обладает значительным потенциалом для превращения ее в серьезный инструмент регулирования партийно-политического пространства сейчас и в перспективе. Одной из главных задач, исходящей из ситуации, сложившейся и развивающейся в динамике отмирания иллюзорных партийных брендов, представляется необходимым осуществить плавное замещение их новыми и более современно организованными субъектами казахстанской политики.
Разумеется, этот проект не станет панацеей от тех проблем, которые подняты в данном документе. Блиц-характер электоральной кампании заставляет быстро изыскивать хотя бы тот инструментарий, который находится на поверхности. Тем не менее, способность увидеть нарастающие проблемные зоны позволит более комплексно взглянуть на текущий электоральный цикл. При этом не тратить массу бесполезных ресурсов на тех, кто утратил или завтра уже неизбежно утратит свое смысловое содержание, и поэтому превратится в элементарный денежный насос.
В частности, очень важно понимание того, что Нур-Отан начнет выборную гонку в достаточно шоковом состоянии. Для того, чтобы партия и в целом идеологический аппарат в массовом порядке не занялись организацией мероприятий фиктивного успеха, необходимо предъявить им жесткую систему показателей, главным из которых является мониторинг реального социального самочувствия электората. Для этого необходимо воссоздать существовавший ранее в АП штаб изучения общественного мнения. Методика его работы должна быть способной увидеть в случае реализации негативного сценария «точку радикализации» электората.
Другим показателем должен стать жесткий контроль над эффективностью использования финансовых средств. Если Нур-Отан будет продолжать осуществлять массу ненужных мероприятий, и под шумок прочности президентского электората заниматься откровенным «отмывом» средств, то это опять превратится в эксплуатацию президентского имиджа, вместо строительства для него политического фундамента. Из опыта предыдущих кампаний известно, что о финансовых махинациях штаба было известно буквально всем – потому что основными подрядчиками были СМИ и рекламные агентства, а в их обязанности входит распространение информации.
Сегодня такой «отмыв» будет носить совсем иной контекст, потому что сегодня мы получили общественность, которую искусственно ввергли в сомнения, и она опять столкнется с необходимостью внутреннего самоопределения. А подобная негативная информация, исходящая из сердца президентского штаба, никак не будет способствовать их выбору в нужном ключе.
Далее, следует избежать возможности возникновения репрессивной тональности кампании. Для этого необходимо создать соответствующий психологический фон в СМИ. Положительный опыт власти в данном направлении существует – в 2007 году, во время парламентских выборов, собственный мониторинг ОСДП свидетельствовал о том, что упоминаемость социал-демократов в СМИ было равной с Нур-Отаном, а иногда и превосходила. Это лишало оппозицию почвы для одного из самых базовых обвинений власти в неравенстве доступа к СМИ. Причем в очных теледебатах между Жандосовым и Абиловым с одной стороны и Ертысбаевым и Келимбетовым с другой (кстати, состоявшихся по просьбе ОСДП), представители власти одержали уверенную очную победу над оппонентами. Это, кстати, один из редких примеров убедительной победы в истинно конкурентых условиях, цена которой неизмеримо выше шумных мероприятий «комсомольского» типа.
Следует подчеркнуть, что к ходу компании 2007 года ни у кого не возникало никаких претензий. Даже в рядах оппозиции она квалифицировалась как «близкая к образцовой» (протест был направлен лишь на результаты и процедуру голосования). Во многом это произошло из-за достигнутой договоренности с АП «о том, что считать уличной встречей с избирателями, а что несанкционированным митингом». Митинг определялся тремя признаками: 1. Наличием усиливающей аппаратуры; 2. Наличием очередности выступлений; 3. Искусственным привлечением людей через громкоговорители. В случае если эти правила нарушались, власти оставляли за собой право пресечения митинга. Если нет – свободное проведение гарантировалось. За период агитации не было ни одного факта нарушения договоренности ни с одной, ни с другой стороны. Такие методы следует использовать и впредь.
Безусловно, данные тактические выкладки имеют смысл в случае, если ни один из участников изначально не станет на рельсы намеренного расшатывания ситуации. Такой поворот событий возможен, поскольку в электоральный цикл неизбежно активизируются зарубежные оппоненты власти, бывшие соотечественники. Для них было бы противоестественным не воспользоваться всеми сложностями в свою пользу.
В любом случае должны быть разработаны не один и не два возможных сценария, оцениваемые по шкале вероятности реализации, а к ним подобран соответствующий инструментарий.
(2013г.)
Сегодня со всей очевидностью необходимо констатировать – ситуация в сфере общественного сознания Казахстана такова, что, если позволить ей развиваться в прежних алгоритмах, то результатом окажется многократное повышение вероятности реализации угроз в самом их негативном выражении.
Многое в последние несколько лет свидетельствует о накоплении определенного кризисного потенциала в стране, в особенности в сфере управления внутренней политикой. Сегодня многие эксперты и представители различных государственных сфер управления едины во мнении – консервативный сценарий развития событий может привести к непредсказуемым последствиям, росту и вариативности протестных выражений в обществе. Это очевидно подтверждает резкий всплеск актов терроризма, в том числе явившихся последствием беспрецедентного обострения всех видов социальной розни.
Усиление опасных тенденций принимает особенно угрожающие формы на фоне того, что международные центры силы наращивают комплексы противоречий между собой, и эпицентр этого геополитического столкновения приближается к Центральноазиатскому региону, и, в частности, к Казахстану. С целью управления ситуацией в регионе со стороны крупных геополитических игроков в наше общество осуществляются неоднократные попытки инфильтрации всевозможных методов дестабилизирующего и даже разрушительного характера с целью влияния на политическую обстановку внутри страны. Становится очевидным, что накопленный потенциал ошибок и просчетов во внутренней политике, в управлении общественным сознанием становится главной целью. В особенности это заметно по деятельности бежавших из страны преступников, использующих для дестабилизации ситуации в Казахстане самый широкий спектр воздействия, в том числе и по линии манипулирования низменными интересами некоторых граждан.
В то же время приходится признать, что ранее некоторые методы управления указанной сферой привели к необоснованной монополизации ряда направлений деятельности политических институтов страны. Монопольное положение, зачастую искусственно и необоснованно созданное, неизбежно повлекло за собой утерю ими конкурентных способностей. В результате – многие политические институты и инструменты проигрывают противостояние не только сильным и опытным зарубежным противникам, но и элементарную борьбу за умы и настроения населения страны. Во многих случаях решающим оказалось чрезмерное применение метода «ручного управления», ориентира на силовые методы решения проблем, игнорирование общественного мнения. В итоге развилось устойчивая неспособность осуществлять во внутренней политике «тонкие сценарии» по достижению конкретных, а не мифических целей.
Имеет место и такой феномен, как бюрократизация управленческого звена государства – стремление некоторых чиновников подменить реальную деятельность откровенным и намеренным искажением действительного положения дел, недостижение результата – оголтелым пиаром в свою пользу. Этому во многом способствует ситуация в государственных СМИ, утерявших качества коммуникаторов и превратившихся в прямых пропагандистов, стремительно теряющих доверие население. Это красочно демонстрирует атмосфера, царящая в социальных сетях Интернета.
Таким образом, высокий уровень конкурентности политических институтов и инструментов в стране – является залогом наиболее эффективного противостояния угрозам внутреннего характера, а также стремлением внешних сил ими воспользоваться. Прежде всего, это касается безопасности государства по вопросам стабильности общественного сознания, надежности ее социальной опоры политическому курсу Лидера нации – Президента РК.
В то же время возможная демонополизация некоторых сфер общественной жизни может привести к определенной неустойчивости ее различных сфер. В этом случае представляется целесообразным реализовывать традиционную для страны и ее Лидера политику верного выстраивания балансов между основными политическими силами.
Основным выводом из сложившейся ситуации является следующий – сегодня назрела крайняя необходимость в разработке ряда Стратегий среднесрочного характера (на 1-3 года), направленные на кардинальные изменения во внутренней политике, на усиление конкурентных качеств ее основных политических звеньев. Речь идет о таких сферах, как:
- партийно-политическое пространство;
- реформа государственных СМИ и сферы идеологии в целом; целевые стратегии социального характера, направленные на конкретные слои общества с формами сознания наиболее восприимчивых к внешнему манипулированию;
- качественное изменение подхода к патриотическому воспитанию;
- укрепление и развитие косвенного государственного регулирования религиозной сферы;
- массовое элементарное политическое просвещение;
- эффективные программы по дезавуированию различных проявления идеологий ксенофобии, межконфессиональной и межэтнической толерантности;
- противодействие внедрению идеологий враждебного характера в самосознание казахстанцев.
При разработке таких стратегий целесообразно опираться на два основных принципа – мобилизации имеющегося национального потенциала специалистов идеологической сферы, а также масштабной и целевой подготовки новых профессионалов-казахстанцев. Такой подход со временем должен сформировать когорту специалистов, способным эффективно противостоять внешним и внутренним вызовам современности.
(2013г.)
В настоящее время и в сложившейся ситуации различными кругами общества алгоритм действий нового руководителя администрации сводится в целом к одному общему определению: в стране назрел многоаспектный кризис и перед новым руководством неизбежно встает необходимость в проведении ряда кардинальных мер по коренному изменению сложившегося положения вещей. Такая оценка является не столько отражающей все стороны ситуации, сколько играет программирующую роль. Чрезмерно завышенные ожидания связаны также с таким феноменом, что каждый политический субъект или политическая сила вкладывают в понятие «кардинальные изменения» свои собственные представления и стремления. Это неизбежно влечет за собой опасность оказаться в положении «переоцененной персоны», причем по всей вертикали общества, включая и руководство страны.
В то же время объективной реальностью является и то, что проведение консервативной политики сегодня – равносильно пикирующей деградации. Бесконечное отрицание того, что кризисные явления обладают по настоящему системным, а не ситуационным, или тем паче, персонифицированным характером – это путь в продолжение самообмана. Туда же ведет и перманентная привычка отрицать совершенные фундаментальные ошибки, которые неизбежны просто естественным образом.
С другой стороны, ряд закрытых исследований говорит и о том, что любое инерционное проведение либерализационных шагов неизбежно приведет к полному коллапсу системы, к так называемому «горбачевскому сценарию» утери контроля над всем. Сегодня невооруженным глазом видно, что, если положить любой хороший комплекс идей на существующую систему управления, – она неизбежно превратится в пародию себя и, как обычно, приведет к необходимости прятать неуспех за ширмами пропаганды.
Все более стал очевиден тезис, что интересы бюрократической прослойки неизбежно доминируют во всем – и перед ней часто бессильно даже руководство страны. Особенно это заметно по абсурдизации большинства программ, избежать которой помогают лишь сверхусилия и работа в режиме максимальной мобилизацией, именуемой проще «штурмовщиной и кампанейщиной», КПД которых не хватает на контроль всего баланса сфер деятельности общества.
Вал накопившихся проблем усиливается тем, что в стране объективно происходит смена элит в их возрастном поколенческом понимании. Это в свою очередь выносит на поверхность реализацию сложнейшего баланса между двумя задачами:
- Выдержать «позицию старой гвардии» по стремлению реализовать безопасный сценарий преемственности политического курса;
- Привести к управлению страной новую элиту, которая во всем соответствовала бы требованиям времени.
В связи с этим во внутренней политике основным становится вопрос – «как найти нужный баланс между ключевыми задачами, как найти нужные меры и не привести к катастрофе, в особенности к фиаско персонального плана?».
В геополитическом срезе Казахстан сегодня находится в состоянии «припертости к стене» и фактической утери суверенитета на условиях «сдачи и капитуляции». Очевидно то, что в вопросах интеграции существует гипертрофированная, чрезмерная доминанта России. На фоне того, что эпицентр глобальной конфликтной зоны неизбежно приближается к Центральной Азии, такое положение дел может привести к быстрому установлению откровенной марионеточности казахстанского политического руководства. Главный вопрос – в геополитическом столкновении центров силы в регионе – будет ли Казахстан активным дипломатическим игроком или пассивным субъектом, отстраненным от любого принятия решений, даже по самому себе? Самое интересное, что этот выбор стоит в большей степени перед «новой элитой» – формируются условия, при которых ей потом жить, править и работать.
В то же время существует циклопический разрыв между принципами ведения внутренней и внешней политикой – они едины лишь в преобладании пиар содержания. Однако взаимосвязанными полями они не являются – одно не питает другое и не проистекает из него.
Отрицание такого «замкнутого круга» проблем разнопланового характера, как правило, свойственно тем, кто будет стремиться привнести в администрацию «шапкозакидательские» проекты, построенные на цели освоения средств и ресурса власти, пользуясь конъюнктурой, и пользуясь традицией, что никто никогда не несет ответственности за то, что реальные то цели не достигнуты. Таким образом, ответственность, как всегда, будет персонифицирована, а реальные саботажники останутся при деньгах и на своих местах бюрократической клетки.
Ситуация объективно усложняется тем, что в течение короткого срока резко вырос оценочных свойств казахстанского общества – во многом это последствие естественного «взросления» экспертных кругов и самосознания общества.
Учитывая все указанные характеристики, можно дополнить картину лишь тем, что в целом понимание экспертами картины, сложившейся в стране, носит «апокалиптический» характер. Такие характеристики ситуации опять же программируют для властей модель поведения, характеризуемую в общем как «неизбежность уступок». Это касается уступок по всем направлениям – обществу, Западу, России, контрэлитам и так далее. Можно будет проследить, как представители этих сил будут формулировать свой пакет видения развития ситуаций – как правило, это будет через призму уступок и неадекватного размена.
*******
Что может стать выводом из вышесказанного?
Прежде всего, для нового руководства администрацией необходима существенная смена ракурсов в понимании ситуации, целеполагании и в видении путей достижения этих целей.
Прежде всего, в целеполагании представляется необходимым сделать то, что ранее было не свойственно другим ранговым руководителям Казахстана – начать моделировать «точку выхода» из периода правления – ведь именно она способна ясно определить те цели, которые должны быть сформулированы и достигнуты. При таком целеполагании нужно исходить из среднесрочного планирования в 2-4 года (подразумевается средний период работы политика на посту руководителя АП). Куда произойдет этот «выход», в каком направлении – это лишь вопрос моделирования. Необходимо добавить и то, что он включает в себя также понимание таких аспектов как персональная безопасность, эффективная поддержка позиций главы государства, баланс между «старой» и «нарождающейся» элитами, геополитический баланс и пр.
Далее в выстраивании целеполагания и в выборе стратегических направлений нужно исходить из фундаментального философского понимания объективности – того, что общий внутриполитический кризис, каким бы он ни был «апокалиптическим», имеет свою положительную сторону – можно практически с нуля начинать формирование «новых правил политической игры». А это архиважно при подготовке максимально «чистых» полей для того, чтобы новые технологии и способы решения проблем не утонули в консерватизме, бюрократическом и межэлитном саботаже (которые неизбежны). Поэтому в образовавшемся потоке предложений и программирования, направленных на новое АП, следует решительно отсеивать те направления, которые ведут к целям, которые лишь выглядят масштабными, а на деле – являются сугубо локальными и основаны на персональном интересе.
Во внешней сфере также существует реальный шанс развернуть геополитическую ситуацию в свою пользу. У Казахстана сейчас есть такой шанс – нарастающий кризис власти в России, не до конца развернутость и инерционность «полков» США, только самое начало переформатирования политики Китая в Центральной Азии, системный кризис в Европейском Союзе. Это шанс объективен – даже «средние» страны могут форматировать региональную и глобальную политику. Относительная компактность страны позволит на какой-то период вырваться на полфазы вперед – для «среднего субъекта» международной политики этого будет достаточно, чтобы кардинально перепозиционировать себя в поле «баланса интересов», и сделать это в свою пользу.
Но самое главное – это то, что все внешние силы будут еще достаточно продолжительный период формулировать свое знание о стране, как «апокалиптическое». А это на руку, поскольку это стратегически верно – заставить геополитических игроков хотя бы какой-то период работать с «неизвестными». И в этой ситуации особенно жаль будет потратить ее на очередные пиар декламации.
Отсюда вытекает фундаментальная задача – сделать внутреннюю и внешнюю политики единым взаимозависящим и взаимопитающим комплексом.
Понимание проблематики не в виде препятствий к достижениям цели, а в виде комплекса уникально сложившихся возможностей – это главный залог нового руководства АП в способности избежать «потолков и коридоров», которые при инерционном движении выстроятся уже через пару месяцев.
Далее, необходимо выстроить ту систему и принципы управления, которые способны достигать таких целей. Насколько существующие принципы деятельности АП соответствуют им? Очевидно, что скорее они составляют клубок препятствий.
Традиции администрирования не представляют собой чего-то цельного, несмотря на бессменность главы государства. В них соседствуют такие несопоставимые вещи как «ручное управление» в стиле hard power Мусина, катастрофическое обрушение авторитета первого офиса при Келимбетове, создание политических монополий и вульгарное упрощение задач при Жаксыбекове. Сюда же можно отнести систематическое нивелирование национального интеллекта «под себя» при руководстве идеологией Тажиным, ситуационного руководства ей же Ашимбаевым по принципу «пока гром…» и так далее. Общей традицией можно признать лишь такие негативные характеристики, как тотальное дезавуирование своей ответственности при полном переносе ее на президента, ликвидация реальных и современных коммуникаторов с обществом и внешним миром и т.п.
Таким образом, резюмируя, следует подчеркнуть, что существующая архаичность управления, главной характеристикой которой является подмена понятий, распространяющаяся и на подмену реальных целей мнимыми, рискует привести к тому, что реальные цели, определяющие «точку выхода», приведут не к действительным победам, а к интерпретационным. А это всегда означало лишь одно – тиражирование информационных фантомов и уход в тень фронт-персоналий. Из архаичной традиции следует взять на вооружение лишь политику президента по выстраиванию балансов и наполнить ее новым технократическим содержанием. Это касается как системы балансов внутри общества, так и в геополитической сфере. В какой-то мере это должно лечь в основу того, что подразумевает прорыв руководства администрации «из потолков и коридоров». В остальном – речь идет о жестко прагматичном подходе ко всем задачам с упором на достижение последовательных результатов.
(2013г.)
Аргументация
I.
В настоящее время в процессе создания Министерства регионов РК проявляется необходимость построения целостной структуры управления регионами, где одну из ключевых функций должна играть специализированная региональная финансовая система, базирующаяся на финансовом управлении сектора коммунальных услуг, имеющего наибольшую социальную нагрузку. Социально-экономическая развитость той или иной страны определяется доступностью, качеством и стоимостью широкого спектра социально-ориентированных услуг для потребителей, что реально возможно только при формировании конкурентной среды в секторе коммунальных услуг.
Сложившая система коммунального хозяйства РК представляет собой сложнейшую, институциональную, по сути, многофункциональную структуру и системообразующую отрасль, которая сегодня является последним базисом реального сектора в региональной экономике, который должен быть окончательно реформирован в конкурентный сектор экономики и должен сформировать рыночный потенциал в соответствии с общенациональным курсом модернизации экономики Казахстана.
Коммунальное хозяйство РК как отрасль формируется следующими секторами и их сегментами:
- государственный некоммерческий сектор, национальные компании, ЖКХ, промышленно-производственный комплекс, строительный сектор, население, сектор домашних хозяйств, (кондоминимумы, КСК).
- институциональные структуры: банки, небанковские финансовые институты, фонды развития;
Для Казахстана проблема региональной банковской системы является новым направлением экономической деятельности и проявилась достаточно остро при постановке задач устойчивого развития регионов, модернизации и реформирования сектора ЖКХ, реализации инфраструктурных целевых программ, регулирования тарифной политики поставщиков коммунальных услуг.
В условиях запрета на создание новых специализированных банков в Казахстане, имеет смысл обратиться к опыту ряда российских отраслевых банков, которые в период банковской реформы сохранили отраслевой принцип, но развились в качестве универсальных банков, обслуживающих конкретные отрасли, при этом являясь полностью рыночными структурами. Этот разумный подход позволил ряду отраслей экономики выйти на конкурентный рыночный уровень развития при сопровождении прогрессивного финансового управления со стороны универсальных отраслевых банков.
Современный коммунальный сектор Казахстана формально имеет возможность привлекать финансовые ресурсы на развитие практически из всех существующих источников финансирования в соответствии с мировой практикой:
- кредитные ресурсы банков;
- государственные инвестиции;
- иностранные инвестиции;
- капитал с фондового рынка;
- государственные субсидии;
но, при наличии прогрессивного финансового управления в отрасли, которое возможно реализовать на базе единого отраслевого финансового института (банка -оператора) это – совершенствование институциональных норм, таких как внедрение единых правил отраслевого ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета для осуществления институциональных преобразований в коммунальном секторе и ЖКХ, связанных с тарифообразованием, обеспечением ресурсов и информатизацией производственных процессов.
Такой подход позволит эффективно структурировать финансовое состояние коммпредприятий и создаст условия для привлечения в управление коммпредприятиями республики крупный бизнес, позволит провести реструктуризацию предприятий в смысле слияний и поглощений и стимулировать появления коммунальных конгломератов-кластеров, развить реальный потенциал отрасли в части расширения смежных секторов экономики, через поддержку малого и среднего бизнеса, реализовать инновационные технологии в производственные процессы и систем учета для потребителей,
Привести, наконец, к продуктивной вариативности решений основных стратегических направлений экономической безопасности: как водообеспечение и питьевая вода, газоснабжение, энергоснабжение.
В целом потенциал развития коммунального сектора РК видится достаточно перспективным в сравнении, например с Россией, что связано, прежде всего, с соотношением объема потребительского рынка и реального объема основных фондов коммпредприятий, нуждающихся в реконструкции и модернизации, с учетом динамики развития территорий и агломерационных ресурсов крупных городов Казахстана. У Казахстана с его разбросанностью территориальных единиц, сравнительно не высокой численностью населения перспективы для создания оптимальной модели функционирования отрасли есть.
До 2013 года формированию полноценного институционального статуса данной отрасли объективно мешали не отрегулированные отношения центр-регион, где полномочия местных органов исполнительной власти было ограничены в том числе, и в определении статуса коммпредприятий. Сейчас они законодательно закреплены за местными органами власти, при этом не имеют отраслевого статуса и относятся частично к предпринимательскому сектору и в большей массе имеют статус государственного коммунального предприятия на балансе местного бюджета, вследствие произошедшей реструктуризации систем естественных монополистов бывшего СССР.
Сегодня с созданием Министерства регионов РК и передачей комитета территориального развития и комитета ЖКХ в структуру министерства, впервые появляется возможность сформировать все базовые отраслевые параметры для восстановления институционального статуса коммпредприятий, на основе отраслевой финансовой политики и финансового оператора.
Институциональные аспекты функционирования коммунального хозяйства РК должно сформировать Министерство регионов РК:
- институциональный формат функционирования всех форм собственности коммунальных предприятий на уровне единой отраслевой финансовой политики;
- формат государственной финансовой поддержки и субсидирования субъектов отрасли на основе дифференцированного подхода по регионам и специфических условий производства коммунальных услуг;
- Коммунальный Банк – финансовые услуги на местном уровне – взаимодействие с местными органами исполнительной власти;
- Министерство регионов РК – АО «Фонд развития ЖКХ» – республиканский бюджет;
II. Краткий анализ кризогенного состояния отрасли
В настоящее время региональные коммунальные предприятия, включая национальные компании, являются клиентами банков второго уровня, где держат расчетные счета и депозиты и отнесены к сектору ЖКХ по отраслевому признаку.
В целях развития и модернизации ЖКХ РК создан АО «Фонд развития ЖКХ» при АО «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства», которые входят в структуру нового Министерства регионов РК.
На первый взгляд определенная финансовая инфраструктура в отрасли относительно присутствует, но в реальности, критически не соответствует формированию необходимого и полноценного институционального статуса отрасли в современных международных стандартах функционирования и динамики тарифообразования.
Сложившаяся ситуация в регионах объективно не может обеспечить необходимые условия для стимулирования действующих БВУ и вышеуказанного АО «Фонд развития ЖКХ» для эффективного участия в развитии коммунальных отраслей в связи со следующими генеральными кризогенными факторами, влияющими на финансовое состояние отрасли:
- низкая концентрация капитала и не развитая кредитная политика БВУ в регионах в данном секторе: эффективная процентная ставка в банках второго уровня в РК колеблется от 7% до 21 %, средняя процентная ставка – 14 %, что не соответствует реальным потребностям заимствования у БВУ в отрасли. Соответственно все более нарастает зависимость от государственного субсидирования и госинвестиций;
- объективно низкая стоимость залоговых фондов коммунальных предприятий вследствие их почти полного физического и морального износа – около 90%, критический уровень амортизации основных фондов, что не позволяет реализовать крупные инвестиционные проекты в отрасли;
- накопленная, высокая и не реструктуризированная просроченная задолженность в структуре финансов коммунальных предприятий, критическая скорость накопления задолженности – как одного из главных источников необоснованного роста тарифов;
- перманентно растущая потребность в крупных долгосрочных инвестициях или долгосрочных финансовых инструментах фондового рынка, что требует глубокого реформирования финансового управления в отрасли;
- высокий уровень коррупции на местном уровне и применение теневых схем расчетов с поставщиками и потребителями, отсталая и непрозрачная система производства услуг, несоответствие цена-качество;
- непрозрачная структура тарифообразования по регионам и объективная невозможность приведения тарифообразования к единому методу, вследствие различных источников обеспеченности ресурсами регионов по стоимостным характеристикам: энергоресурсы, водообеспечение, транспортировка ресурсов, межрегиональные и межгосударственные поставки, низкий уровень жизни и малая численность населения в большинстве территориальных единиц;
- неразвитость современных систем управленческого учета, планирования, бюджетирования и бизнес моделирования в региональных коммпредприятиях говорит о слабости финансовой дисциплины и культуры в отрасли;
- низкая или отсутствие кумулятивной способности накопленных средств коммунальных предприятий для реализации собственных инвестиционных программ на основе заимствования и как следствие прямое включение инвестиционных затрат в структуру тарифа, что является недопустимым фактором ценообразования (необходимость государственного субсидирования, тогда как сектор коммунальных услуг является одним из самых инвестиционно привлекательных секторов экономики в мире);
- наличие двух форм собственности в ЖКХ – часть приватизирована, а другая находится в госсобственности – соответственно различные формы финансового управления, приводящее к разному тарифообразованию, к неэффективному государственному субсидированию отрасли и к вопросам адекватного налогообложения производственных предприятий;
- отсутствие современных стандартов отраслевого менеджмента и слабая кадровая обеспеченность предприятий коммунального хозяйства профессиональными кадрами, в первую очередь, управляющего и инженерного состава, незаполненность кадровых потребностей в целом по отрасли, вследствие объективной (кризисной) оптимизации функционала отрасли;
- неэффективные взаимоотношения поставщик услуг – потребитель при отсутствии институционального посредника между ними являются одним из главных кризогенных факторов, которые в условиях Казахстана: а) предельно упрощают весь отраслевой функционал коммпредприятия; б) коммпредприятия функционируют в усеченном производственном формате; в) формируют условия для коррупции и непрозрачного тарифообразования; д) создают условия для образования просроченных долгов потребителей;
- отсутствие инструментов обязательных двусторонних связей с общественностью на основе публичной отчетности и ведения публичной деятельности.
Создание Коммунального Банка на базе БТА.
Официально очередной этап реструктуризации банка завершен и дано указание вывести его из-под государственного управления до конца 2013 года. Но реструктуризацию БТА, с целью получения максимального положительного результата можно продолжить, но уже путем реформирования его целевой деятельности, через дополнения к его миссии и рационального использования его структуры и филиальной сети по республике – в качестве Коммунального Банка, согласно, вышеуказанных аргументов по созданию финансового агента регионального значения.
- обеспечить создание крупного эмитента отраслевых и муниципальных ценных бумаг на национальном и международном фондовых рынках на базе единого финансового института для институциональных инвесторов;
- создать благоприятные условия для привлечения международных финансовых институтов в капитал Коммунального Банка;
Что это даст в целом для банковского сектора, где все хозяйствующие субъекты РК, всех форм собственности держат расчетные счета и депозиты в банках второго уровня, за исключением бюджетных государственных организаций:
- сохранение разумного конкурентного баланса в банковском секторе РК и его структуры;
- произойдет объективная реструктуризация клиентской базы ряда БВУ в пользу Коммунального Банка и решения государственных задач безотлагательного характера,
- произойдут слияния и поглощения в банковском секторе, что тоже ожидаемый процесс – укрупнения банков, что характерно для текущего кризисного периода;
III. Уровень политических решений необходимых для обеспечения институционального статуса сектора коммунальных услуг
Большинство указанных генеральных кризогенных факторов объективно не были учтены при рассмотрении финансовой инфраструктуры отрасли уполномоченными государственными органами на текущем этапе развития сектора ЖКХ, и в основном были сведены к анализу проблем отрасли на микроуровне и последующей ориентацией на ресурсы республиканского бюджета для решения проблем. Но по причине того, что данные вопросы требуют более расширенного и глубокого рассмотрения на уровне формирования рабочего функционала Министерства регионов РК и системы финансового управления отраслью, как базиса развития регионов и требуют принятия ряда адекватных политических решений на центральном уровне в следующих формах:
- необходимо определиться с понятием муниципальное управление и муниципальная собственность в сложившейся политической системе Республики Казахстан, потому что без устойчивых и адекватных дефиниций невозможно создать эффективную законодательно-нормативную базу функционирования коммунального хозяйства РК в разрезе регионов и крупных городов, осуществить необходимые реформы и использовать прогрессивный мировой опыт. Что особенно важно в связи с созданием Министерства регионов РК и запуска элементов местного самоуправления на нижнем уровне местных исполнительных органов власти, которые формально образуют зачатки муниципальной собственности и управления.
- создать общий институциональный формат функционирования всех форм собственности коммунальных предприятий на уровне единой отраслевой финансовой политики – муниципальный статус, без национализации ранее приватизированных коммпредприятий;
- определить формат государственной финансовой поддержки и субсидирования субъектов отрасли на основе дифференцированного подхода по регионам и специфических условий производства коммунальных услуг;
- ввести на базе единого специализированного отраслевого финансового института в целях совершенствования институциональных норм, единые в формате отрасли правила ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета для осуществления институциональных преобразований в ЖКХ, связанных с тарифообразованием, обеспечение ресурсов и информатизацией процессов.
- разделить краткосрочное кредитование текущих потребностей от долгосрочных инвестиций в масштабную реконструкцию и модернизацию основных фондов и сетей дочерних компаний коммпредприятий по уровням принятия решений – между местными уровнями власти и Министерством регионального развития РК и по источникам финансирования – прямое государственное финансирование и привлекаемые средства из других источников;
- создать условия для накопления собственных средств предприятиями коммунального хозяйства, управления долгами, через краткосрочное связанное кредитование на базе расчетного счета и текущих операций на строго возвратной основе, что требует единого централизованного финансового контроля со стороны финансового интститута;
- привести предложения иностранных и национальных инвесторов по управлению коммпредприятиями и приватизации к общему формату функционирования данных секторов коммунального хозяйства по регионам и их специализации, по вопросам государственной поддержки субсидирования и по актуальным вопросам налогообложения по уровням принятия решений местный – центральный уровни;
- обеспечить создание крупного эмитента отраслевых и муниципальных ценных бумаг на национальном и международном фондовых рынках на базе единого финансового института для институциональных инвесторов;
- создать благоприятные условия для привлечения международных финансовых институтов в капитал единого финансового института – в данном случае в капитал Коммунального Банка;
Данные аспекты кроме проведения необходимых экономических реформ, требуют корректировки, уточнения и дальнейшей модернизации политических реформ в региональной политике как базиса регионального развития и социально-экономической стабильности. Старт, которым был дан в Послании Президента Казахстан-2050 о введении института местного самоуправления в региональную политику на нижнем уровне местной исполнительной власти.
(2013г.)
(тезисы)
Эффект прямого социально-политического действия
- Демонстрируется способность власти эффективно «развязывать» сложные и системные проблемы в экономической сфере (в данном случае кризис вокруг БТА), влекущие за собой негативный политический шлейф. Деполитизация вопроса БТА.
Наличие кризисных проблем вокруг ряда БВУ, пенсионной системы и институтов развития сильно «перегревают» противоречия в политическом классе страны. Проблемы экстраполируются в общество и расшатывают основную социальную опору политического строя. Накопленный социально-политический негатив вокруг этого круга проблем очевиден.
Здесь используется важнейшая парадигма «развязывания» крупных проблемных секторов – эволюционная замена бесперспективной системы на более эффективную систему, взамен старого принципа – «прятать ответственность за перегруппировкой сфер влияния». В итоге реализации старого принципа «виновники» избегают ответственности, а ответственность концентрированно экстраполируется на политический строй и его главу. Новая парадигма публичная, в отличие от существующей.
Уже очевидно, что деполитизация вопроса БТА несистемным методом невозможна. Скорее всего, будет снова использоваться тактика «подмены понятий» и «иллюзорной эффективности». При этом вопрос БТА уже продемонстрировал, что способен нанести сокрушительный и мультиэффективный удар по национальной безопасности страны в целом.
- Исполняется прямое поручение президента о введении местного самоуправления, высказанного им в Послании-2012.
Предыдущий опыт экспериментов с местным самоуправлением (к нему можно отнести ряд теоретических предложений – «Концепция развития местного самоуправления — 2012», экспериментальные выборы акимов районов в 2003 году, введение института «акимчиков» в городах и сельских округах и так далее) продемонстрировал, что подход с точки зрения сугубо электоральных механизмов, плюс создание невнятных бюрократических структур – контрэффективен.
Введение самоуправления должно обладать смысловым наполнением по ряду параметров – финансово-институциональная база, инфраструктурная база, четкое видение разделения административных полномочий, четкое видение полномочий и преимуществ для электората. Эти параметры должны зиждиться на соответствующей правовой базе.
Основной критерий эффективности – ответить на целый ряд социальных ожиданий населения. Нельзя создавать политический «долгострой». Именно широкие слои региональных групп населения должны быстро почувствовать эффект от работы системы.
Одно из отличий Проекта от «Концепции…» – она в основном отвечает на вопросы рассегментирования, причем в достаточно механистической форме:
- за счет институционализации вокруг банка ощутимо видны интеграционные перспективы населенных пунктов, районов. Это содержит ответ на вопросы о недостаточности средств у некоторых поселковых акиматов.
- Создается эффективная база для формирования, а затем реализации административной реформы. Создаются воспроизводящиеся системы «снизу».
Опыт проведения адмреформ в Казахстане говорит, что их основным принципом всегда являлась модель «реформа из центра». Основное внимание, как правило, уделялось центральным органам власти, а вниз спускались лишь модели, логически исходящие из стратегий в центре.
Проект предоставляет возможность рассмотреть конфигурацию административной реформы, базируясь на ценностях «снизу», т.е. регионов и их населения. Это происходит не за счет распределения полномочий среди регионального чиновничества, а за счет делегирования им управленческих функций снизу. Это в значительной мере позволит увидеть вопрос достаточности чиновнической прослойки в регионах. Парадокс в том, что районная и областная бюрократия лишь номинально стоит на защите интересов Центра, в то время как Центр практически полностью удовлетворяет интересы региональной бюрократии в сфере полномочий. Поэтому вопросы вертикальной управляемости социально-политическими явлениями часто подаются региональными элитами спекулятивно.
Реализация Проекта позволит подойти к вопросу адмреформы институционально. Принцип «делегирования полномочий снизу» способен сформулировать и список электоральных должностей. Ими могут в перспективе быть не только акимы, но и, к примеру, полицейские.
- Деполитизация целого спектра социальных проблем на местах. Создается прецедент классической реализации Проекта на основе идеологии «прагматизма».
Институциональная способность Проекта по генерированию региональных систем приведет к деполитизации целого спектра социальных проблем в коммунальной сфере, ЖКХ, финансирования мелкосегментной инфраструктуры и пр.
В социальном плане – Проект должен на местах изменить психологию граждан с парадигмы «ожидания решений от властей» к коммунальной психологии, психологии коммунального прагматизма. Это 100 % отвечает духу политических поручений президента.
Эффект косвенного социально-политического воздействия
(ожидаемый мультипликативный эффект)
- Выработка парадигмы деполитизации целого ряда подобных кризисных систем, угрожающих национальной безопасности.
- Вопросы внутренней политики сегментируются по многоуровневому принципу.
Многоуровневая ответственность за внутреннюю политику была утеряна, в результате чего вопросы политики в казахстанском обществе прибрели очертания «ответственности президента за все». Выделение из внутренней политики четко очерченного регионального сегмента.
- Начало деполитизации конфликта «банки против населения».
- Преодоление стереотипов «институты развития» против интересов народа.
(2013г.)
Анализ и предлагаемое решения
Современная банковская система Казахстана за последние несколько лет перетерпела глубокие негативные изменения с внедрением неэффективного госуправления в банках второго уровня, в связи с их кризисным положением и, в частности, невозможностью выполнения обязательств перед внешними кредиторами в период мирового финансового кризиса, что повлекло за собой тяжелейшие убытки и системные последствия в целом для финансовой системы РК.
Произошли негативные изменения странового инвестиционного климата, именно в
операционном аспекте – механизмах реализации, что сегодня привело к принятию авральных и не менее кризогенных решений по дальнейшему реформированию финансовой системы Казахстана. Можно сказать, что начался поиск решений проблем, но этот процесс должен стать последовательным и объективным, с учетом реальной ситуации и задач диверсификации национальной экономики.
В сегодняшней банковской системе Казахстана сформировались серьезные кризисные процессы, главными из которых являются:
- прогрессирующий развал банковской системы страны;
- неэффективное госуправление в кризисных банках, и его негативные последствия;
- сужение поля деятельности банков в связи с невозможностью управления рисками кризисного периода и соответственно нарушение транспарентности;
- спекулятивный и краткосрочный характер кредитных операций;
- острый дефицит долгосрочных финансовых ресурсов;
- зависимость стратегий банков от интересов учредителей и крупных корпоративных клиентов;
- безсистемная клиентская база ведущих БВУ, сложившаяся в периоде 90-х и начала 2000-х годов, (также из числа национальных компаний), не отвечающая перспективам развития национальных отраслей экономики – только расчетно-кассовое обслуживание без инвестиционной составляющей;
- отсутствие в Казахстане БВУ, имеющих отраслевую специализацию;
В инвестиционной сфере из внутренних страновых источников
- объективная слабость институтов развития, по причине того, что основным источником их наполнения является республиканский бюджет, а в перспективе их источником станут национальный фонд и ресурсы накопительных пенсионных фондов, что представляется особенно угрожающим фактором для окончательной дестабилизации финансовой системы Казахстана, плюс создание Агентства по развитию на базе тех же институтов развития, которые, по сути, не оправдали себя до сегодняшнего времени, так как объективно изолированы от текущих денежных (рабочих) потоков в экономике РК.
Сегодняшнее состояние финансовой системы РК, включая и институты развития, представляет угрозу не только для диверсификации экономики Казахстана, но и для поддержки текущего экономического положения в стране. Это касается, в первую очередь, поддержки деятельности национальных и местных операторов коммунальных отраслей – энергетики, инженерных сетей, инфраструктурных объектов и ЖКХ, острой необходимости реконструкции и модернизации их функционала. Почему необходимо обратить особое внимание именно на эти отрасли коммунального хозяйства Казахстана? Потому что сегодня их деятельность несет основную социальную нагрузку на ближайшую историческую перспективу, и является фундаментальной базой для развития регионов, что также необходимо для развертывания деятельности вновь созданного Министерства регионов РК.
Создание Коммунального (муниципального) Банка РК на базе БТА
Учитывая, создавшуюся ситуацию с БТА, и обсуждаемые сегодня перспективы продажи заведомо убыточного банка, которые могут занять длительное время или передачу его в Агентство по развитию, что тоже неэффективно – необходимо рассмотреть реструктуризацию БТА для создания на его основе Коммунального (муниципального) Банка с полным сохранением его структуры внутри страны и филиальной сети, как нового субъекта финансового сектора РК – то есть как полноценного отраслевого банка.
Данное решение позволит значительно переакцентировать основные фокусы текущего реформирования финансовой системы Казахстана, предстоящей реструктуризации ФНБ Самрук-Казына, реализации программы «Народное IPO» и создания единого пенсионного фонда.
Коммунальный банк (в перспективе Муниципальный Банк) должен быть создан в ближайшее время в формате развития регионов – построения финансовой и институциональный основы для развития коммунального сектора услуг, ЖКХ республики, реализации инфраструктурных, инженерных проектов + расчетно-кассовое обслуживание – это:
- прогрессивная операционная система для полноценного функционирования данных отраслей на основе современных международных стандартов и механизмов управления;
- применение адекватной инвестиционной политики в вышеуказанных отраслях;
- создание адекватных условий для осуществления деятельности на фондовом рынке;
- создание полноценных условий для реализации отраслевых и региональных инфраструктурные проектов;
- систематизация рынка коммунальных услуг для населения – создание «подушки безопасности» для поддержки уровня тарифов, и недопущения отпуска тарифов на услуги для населения в целях купирования потенциальных социальных взрывов.
- диверсификация доходов коммунальных компаний для внутреннего реинвестирования на реконструкцию и внедрению новых технологий;
С учетом высказанного необходимо рассмотреть главные стратегические аспекты для реформирования БТА в отраслевой Коммунальный (муниципальный) Банк, с учетом запланированного создания субъектов местного самоуправления на региональном уровне, что естественно влечет за собой создание базы муниципального законодательства. Муниципальные системы являются принципом местного самоуправления. Поэтому, предлагается рассмотреть проект создания Коммунального банка как предварительную модель, которая в перспективе может развиться до полноценного муниципального банка.
(2020г.)
- Введение. Актуализация вопроса об Общественном договоре в Республике Казахстан. Краткий экскурс в возникновение понятия ОД. Современное состояние теории ОД в мире. Дискуссия об ОД в релевантных странах (Россия, Украина, Турция). ОД в медиа пространстве Казахстана.
В последнее время в Казахстане высокую актуальность приобрела тема Общественного договора. Это отражается как в выступлениях отдельных политологов[1], так и в тематике публичных дискуссионных площадок[2]. В различной форме тема Общественного договора представлена в политических платформах партий и гражданских движений.
В то же время содержание дискуссий и публикаций говорит о том, что представления об ОД не совсем соответствует философский глубине этого понятия и зачастую примитивизируется до элементарных форм. Соответственно, примитивизации знаний последуют неверные выводы и политические решения.
Одной из типичных ошибок является излишняя субъективизация процесса появления ОД, которое представляется как некий стол переговоров, на котором представители власти и представители народа подписывают некий документ общих правил.
Другой типичной ошибкой является излишняя «контрактизация» отношений в рамках ОД. К ним можно отнести, например, рассуждения из числа «мы вам низкие налоги, вы нам лояльность на выборах» или «мы вам столько-то квадратных метров социального жилья, вы нам признание эффективности нашей социальной политики». При таком подходе состояние ОД сводится исключительно к цифровым показателям. Такая методика хороша лишь для манипуляций общественным мнением, но никак не для ведения realpolitik. Примером может служить то, как количество независимых СМИ выдается за состояние свободы слова, а чистые цифровые показатели вне их баланса и относительности выдаются за социальный характер государства.
Часто контуры ОД сводятся к такой категории как «предвыборные политические обязательства» выборных чиновников. Сквозь эту призму ведутся рассуждения о состоянии ОД, как содержания электорального мандата избирателей. Это более сложный уровень взаимоотношений общества и выборного представителя власти, но, тем не менее, и он не отражает всех граней Общественного договора.
Следующей ошибкой можно считать примитивизацию масштабов ОД попытками выдать один отдельный сегмент за состояние всех общественных отношений в стране[3]. В качестве примера можно привести попытку в качестве решения Общественного договора представить Ассоциацию народа Казахстана (АНК). Такое намеренное или просто ошибочное суждение вообще стоит на грани угрозы концепции государственного устройства Казахстана, где государство не было учреждено этносами, а гражданами.
Общественный договор часто называют «социальным контрактом» (от названия труда Ж-Ж.Руссо “Contrat social”), что в английской версии чрезмерно прагматизировало его понимание. В этом специфика в основном XIX-XX веков и развития общественной мысли государств Запада, где длительное время доминировал прагматизм. В то же время понятие Общественного договора не является бизнес-категорией и даже не сугубо правовым понятием. В настоящее время в Казахстане, чтобы оперировать понятием ОД необходимо многостороннее изучение его происхождения и развития, чтобы вывести его из разряда поверхностного популизма и политтехнологий, с целью последующей разработки эффективных мер по развитии общества и государства.
В первую очередь это изучение позволит выделить основные сферы социальной жизни, в которых реализуется, живет и трансформируется ОД, в чем заключаются его основные функции, каковы проявления в общенациональном масштабе и в жизни отдельного гражданина.
Историко-теоретический экскурс от происхождения понятия ОД до современного состояния в мире.
Теория Общественного договора (ОД) представляет собой одно из старейших политико-правовых учений. Несмотря на то, что собственно понятие ОД пришло из эпохи Просвещения и сформулировано Томасом Гоббсом[4] [5] Джоном Локком[6] и Жан-Жаком Руссо[7], это учение восходит к античности, собственно, как и в общем теория государства. В частности, во второй книге «Государство» Платона, написанной в форме диалогов, его брат Главкон приходит к ключевому умозаключению, что происхождение «справедливых» законов заключено в наличии некого договора, который позволил бы «избегать конфликтных ситуаций» в политике государства, а не только реализации государем своего божественного предназначения. В сущности, это определение и легло в основу «контрактуализма», то есть договорной сущности организации справедливого государства.
В ту же эпоху сформулирован один из основных источников возникновения социальных договоров – естественное право, естественное восприятие справедливости человеком, как одно из базовых качеств, присущих человеку разумному и его стремлению организовывать свое существование в виде общин и государств.
В эпоху античности сложилась еще одна важнейшая парадигма ОД – это дуализм понятий «Договор» и «Право на восстание». В античные времена право на восстание (jus resistendi) именовалось как «тираноубийство». Правом на него обладает народ, лишенный государями своего естественного права на справедливость.
Другим существенным аспектом в учении античных философов, в частности Демокрита, является то, что для происхождения законов недостаточно личностного развития, объяснения мироздания и основ государственности исключительно жрецами и духовными лицами. Основой ОД провозглашается правовая база законов, призванных не только ограничить членов общества в поступках, но и вовлечь в процесс создания общих правил как можно большее количество людей.
В эпоху Ренессанса, ставящего в центр идею «поклонения человеку», в принципе сложилась основа для понимания таких категорий как гражданское право, гражданские свободы и их места в «социальном контракте», формирующем политико-правовой концепт государства.
Несмотря на то, что существует представление о том, что теория ОД формировалась исключительно в Европе, это не совсем так. Уже в империи Александра Македонского возник симбиоз традиционного греческого стиля правления и восточных деспотий. В Средние Века такие симбиозы возникали на основе столкновения христианского мира с ближневосточными деспотиями и тюркскими традициями организации государства во время Крестовых походов.
Несмотря на то, что мусульманские традиции государственного строительства основываются на юрисдикции «богоизбранности государя», в классических трудах восточных ученых функции монарха описываются не в русле исключительных прав, а в качестве обязанностей. Так в книге «Сиясат наме» Низам аль-Молька говорится о том, что государь не имеет права будучи «беспечным к своему делу и народу» передавать свои обязанности кому-либо. В этом же труде повсеместно говорится о дуальной основе госуправления в виде «государственной справедливости» или «права на восстание», а также о том, что причиной социальной смуты в государстве является несправедливое правление и пренебрежение государем своих прямых обязанностей перед народом. «Царство держится и при неверии, но не держится при притеснении и насилии»[8].
В Китае, в эпоху Тан (VII – X вв.), практика заключения договоров обретает самое широкое применение в связи с интенсивным развитием торговли. Этот фактор, а также то, что государственное устройство Китая стало результатом уникального симбиоза тюркских традиций управления государством, принесенных завоевателями-табгачами и конфуцианских традиций, заложенных еще в предыдущей династии Суй, привели к созданию эффективного для своего времени государства, основанного и на деспотических, и на договорных традициях.
Право на восстание в Китае той эпохи реализовалось народом в форме длительных и кровопролитных войн, которым положили конец тюрки-табгачи, создав унитарное государство. Выйдя из дуального поля права на восстания, государи Тан начали реализовывать некоторые из основных функций ОД – в частности, создания системы наказаний за нарушение общественных договоров и создание социальных лифтов. В эпоху Тан законченную форму приобрел Уголовный кодекс, состоявший из 500 статей, описывающих правонарушения и наказания за них[9]. Этот кодекс был еще сословным и «спускался сверху», однако в нем были предусмотрены наказания не только для низших сословий.
Важнейшим механизмом социального продвижения вверх по социальной лестнице в эпоху Тан являлась система экзаменов на поступление на государственную службу[10]. В ней могли участвовать люди необязательно благородного происхождения. Несмотря на некоторые сословные ограничения, система экзаменов создавала уникальный для того времени социальный лифт. В особенности в сочетании с тем, что властями поощрялось образование и расширение его социальной базы.
Таким образом с древних времен сформировались две основные плоскости существования ОД. Первая – это естественное стремление человека к свободе и справедливости и ограничение свободы человека договором. Вторая – это реализация права на восстание как следствие отсутствия или нарушения ОД. Объединяет эти две плоскости поле контрактуализма, означающего способность человека разумного к заключению договоров.
В новейшее время теория ОД получает свое дальнейшее развитие в реалиях развития мирового капитализма, принесшего с собой новые социальные реалии. В частности «контрактуализм» приобрел широчайшее горизонтальное распространение. Договоры стали заключаться между новыми общинами – гильдиями, компаниями, акционерами и т.д. Запад окончательно перешел от правовых традиций к институциональному праву. Конституции стали появляться не только в европейских странах, но и стали проникать на Восток. Республики значительно потеснили монархии, а, следовательно, и «богоизбранную легитимность» по всему миру.
Главное в появлении республик и конституционных монархий – это учреждение и совершенствование институтов выборной демократии, развивающих одно из самых главных функциональных полей Общественного договора – «делегирование власти и иных функций» от народа либо его представителям (политикам) либо отдельным группам, обладающим определенными способностями. Например, делегирование прав формирования идеологий – духовенству, ученым или «народным авторитетам».
Гуманитарная наука Запада пришла к выводу о том, что ОД формируется в двух плоскостях управления – горизонтальной (гражданское общество) и вертикальной (государство). Новыми явлениями стали фундаментальные права и демократические свободы человека, независимость и неприкосновенность его собственности, права общин и право на справедливый суд.
Основным явлением стало революционное движение, в особенности начала ХХ века, которое привело к переучреждениям государств. А следовательно, к новому витку заключения новых ОД по миру – от крушения российской монархии до возникновения Турецкой республики. Это время характеризуется новой волной в понимании государства, как способа существования человеческого общества. До ХХ века существование государства не подвергалось сомнению, дискуссия, по сути, велась лишь вокруг его качества.
В XIX-ХХ веках три течения подвергли сомнению само существование государства. Это анархизм, марксизм и некоторые ветви либерализма. Они провозгласили недопустимость примата государства над личностью, характеризуя государство исключительно как «аппарат насилия». Так анархизм отрицал государство и общественный договор вовсе, марксизм провозгласил самоуничтожение государства в будущем, по достижении коммунизма, а либералы (Ортега-и-Гассет[11], Токвиль[12] [13]) говорили об охлократической сущности государства и об иллюзорности справедливости выборных демократий.
Этот период истории главный вопрос теории Общественного договора – строительство справедливого государства – переводит в практическую плоскость. Это стало возможным благодаря расширению участия граждан в представительных органах, благодаря революциям и национально-освободительным движениям, приведшим к свержению некоторых колониальных режимов.
Послевоенный период ХХ века характеризуется новой волной переучреждения государств из-за массового крушения колониальных империй, освобождения стран Азии и Африки. Освободившиеся страны стали на путь поиска своих моделей справедливого государства и собственных представлений о легитимности той или иной политической системы. Это происходило в условиях «холодной войны», когда выбор пост-колониальных стран стоял между двумя системами – социалистической и капиталистической. Те, что исходя из убеждений или практического опыта не выбирали ни тот ни другой, сформировались в мировое движение Неприсоединения или Третий мир.
Теории государственного строительства «Третьих стран», такие как депендентисты, модернисты и сторонники догоняющего развития, сторонники теории «центра и периферии» к 80-м годам зашли в тупик, не найдя ответа не только на вопрос каким должен быть ОД в их странах, но главное – как он впишется в мировую неоколониальную систему. Потерпели фиаско все их социально-экономические инструменты, такие как государственный протекционизм отечественной буржуазии, импортозамещение, выбор референтной модели развития, борьба с демонстрационным эффектом потребления и пр.
Однако конец ХХ века привнес в теорию ОД новое явление – переучреждение государств социалистического лагеря и теорию «конца истории» Фукуямы[14]. Первое характеризовалось тем, что третий мир наблюдал за тем, как постсоветские страны осуществляют переход от одной крупной общественно-экономической формации к другой. Второе провозглашало то, что существует единственный рецепт справедливого государства и ОД, основанных на либерально-демократических ценностях, справедливо одержавших победу над всеми остальными типами государств.
XXI век продемонстрировал в полной мере, что никакой специфики пост-советских стран нет, а они прошли такой же типичный путь пост-колониальных стран, осуществляемый на основе первоначального накопления капитала в условиях «дикого капитализма», переформатирования элит, компрадорского характера буржуазии, основанного на ее альянсе с мировыми транс-национальными корпорациями.
Таким образом, постсоветский феномен не создал новых моделей ОД, а сам регион перешел в стадию пересмотров социальных контрактов, возникших во время крушения СССР.
Общественный договор в настоящее время. Релевантные страны.
Значительный интерес в современной теории ОД представляет то, что вопрос перезапуска ОД в стране волнует не только страны, где произошло переучреждение государства, но и в странах классического Запада. Сегодня в США произошел раскол общества и элит вокруг результатов выборов Трампа, в Великобритании это шок по поводу Брэксита, а Макрон говорит, что Франции (стране с одной из старейших республик) необходимо заключение нового Общественного договора [15].
Несмотря на то, что проблемы США и Британии часто приписывают влиянию современных информационных технологий, речь идет о кризисе буржуазной либеральной представительной демократии, которая дает сбой под влиянием новых современных факторов научно-технологических реалий, новых альянсов (таких как Европейский союз и его конфедеративный Общественных договор), новых трендов глобальной миграции («месть колоний» и мультикультурализм).
Кризис современных стран с республиканским строем используется режимами, которые по характеру Общественного договора больше близки к азиатским деспотиям и автократиям, используя демагогию вокруг кризиса представительной демократии в пользу защиты своих договоров об учреждении государства.
Век информационных технологий и глобализация привели к тому, что проблема ОД не может рассматриваться в отдельно взятой стране. Его нужно рассматривать неотрывно от глобальных трендов, региональных специфик и от того, на какие страны ориентирована экономика, в том числе и от каких геополитических направлений она зависима.
Крайне высокую степень актуальности дискуссия о состоянии Общественного договора приобрела в Турции[16]. Возможно, это вызвано тем, что в стране существует цивилизационный конфликт между исламом и кемализмом, а также тем, что Турция осуществляет рывок в сторону статуса геополитического регионального лидера и ведет открытые военные действия в зоне традиционного османского влияния. Есть еще и третий фактор – недопущение европейскими консерваторами Турции к ЕС, что помешало ей ориентироваться на западный тип Общественного договора. А скорее всего это сочетание всех упомянутых факторов[17].
Для Казахстана наибольшую релевантность представляют собой не страны Западной демократии, а страны постсоветского пространства, которые вместе с нашей страной прошли этап переучреждения государства, первоначального накопления капитала, новейшего опыта самостоятельного строительства государства и модели общественного договора. Как можно легко предположить, эти страны можно разделить на три части – те, которые остались на определенной преемственности сохранения или передачи власти (Россия, Казахстан, Беларусь); те, которые изменили ОД коренным образом – путем революций (Грузия, Украина, Кыргызская республика) и те, которые сразу избрали за модель развития «цивилизационный переворот» за счет четкого выбора референтной модели развития общества в виде Европы (страны Прибалтики).
Россия. В России обсуждение Общественного договора, несмотря на преемственность власти, ведется уже давно. Одним из лидеров, формирующих представление о его состоянии в стране, является Александр Аузан[18], доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ, член Комиссии Президента РФ по модернизации и технологическому развитию экономики России, президент Института национального проекта «Общественный договор», один из основателей группы «СИГМА». А.Аузан еще в 2009-м году высказал категорическое мнение о том, что состояние ОД в России «равно нулю». Существует целый ряд научных работ, составляющих собой общую картину исследования данного вопроса в этой стране.
Тем не менее передача власти по схеме «Путин – Медведеву и обратно» была осуществлена в рамках того, что нельзя нарушать конституционные нормы, иначе угрозе будет подвергнуто само существование ОД в стране и это может склонить народ России в сторону применения им права на восстание.
Этот политический акт во многом символизирует состояние ОД в соседней стране. Он основан на том, что властью намеренно смешиваются понятия «естественного» и «позитивного» права, соответственно манипулируя понятием легитимности, подменяя легитимность по ОД легитимностью с точки зрения действующей буквы закона (позитивного права).
Украина. Опыт этой страны более интересен с той точки зрения, что она осуществила уже два акта переучреждения государства, но при этом состояние общественных отношений не позволяет им говорить о том, что в стране перезапущен Общественный договор. В Украине работает транспарентная представительная демократия, но говорить, что нация выбирает лучшего представителя или лучшую политическую линию, нельзя. Каждый раз народ Украины сталкивается с определенным разочарованием.
В связи с этим тема Общественного договора в стране обсуждается очень интенсивно и в прессе, и на экспертных площадках[19]. Многие эксперты уже открыто высказывают разочарование в представительной демократии, хотя именно ее защита являлась предметом обеих революций в Украине[20].
Очевидно, что украинская общественная мысль в скорейшем времени придет к глобальным заключениям об общечеловеческом уровне развития теории государства и революции. Фактически они раньше всех могут поставить вопрос вообще о новом формационном витке человечества, если это позволит им их состояние науки и общественной мысли[21]. Преимуществом ситуации в Украине является то, что они отрабатывают все нюансы ОД в практическом плане.
Узбекистан, Кыргызстан. Несмотря на то, что эти страны имеют полярно отличающуюся постсоветскую историю – одна прошла две революции, другая – процесс «биологического» транзита власти – с точки зрения теории ОД они не демонстрируют какие-либо теоретические тренды. Однако могут представлять собой один общий тренд – это азиатскую геополитическую ориентированность, отрыв от западных ценностей, от центров, где формируются современные представления об Общественном договоре.
Это представляет для Казахстана несмотря на то, что мы еще не переживали смен властной парадигмы, сохранить региональное лидерство в понимании теории и практики Общественного договора. Это, при определенном стечении обстоятельств, скажет свое геополитическое слово в понимании вопроса о региональном лидерстве. Однако для нас это формирует вызов остаться в европейской парадигме, хотя геополитическое положение нашей страны может склонить наш маршрут развития в другую сторону.
- История Общественных договоров в Казахстане. Различие первых трех типов Республик в РК. Текущее состояние ОД. «Вначале экономика, а потом политика».
Несмотря на то, что 30 лет Независимости с точки зрения глобальной истории являются довольно коротким периодом, это время характеризуется высокой динамикой реформ и политических изменений такого уровня, что на некоторых экспертных площадках и в публикациях эти изменения называют терминами «первая, вторая республики» по образцу периодичности истории Франции.
Эти термины прежде всего характеризуют то, что между типами Общественных договоров осуществлялись изменения настолько значительного масштаба, что равносильны понятию переучреждения государства. Они наиболее удачно передают специфику типов Общественного договора, характерных для того или иного периода развития Казахстана в эпоху Независимости.
Первый Общественный договор, Первая Республика (1990 -1991). Первый тип ОД возник в 1990 году на основе принятия «Декларации о государственном суверенитете Казахской ССР» (25 октября 1990). Существование этого типа ОД очень коротко, буквально до принятия 16 декабря 1991 года «Закона о государственной независимости Республики Казахстан». Однако этот период стоит выделить в виде отдельного типа ОД, поскольку его важнейшие отличия лягут в основу некоторых противоречий самого последнего типа ОД, а именно представления о делегировании суверенных полномочий наднациональным органам управления.
По мнению ряда казахстанских ученых Декларация о суверенитете не являлась «декларацией намерений», а стала реальным нормативным правовым документом, легшим в основу принципов государственного суверенитета страны[22]. В первую очередь потому, что в этом документе впервые было провозглашено право суверенитета народа Казахстана над принадлежащей ей территорией[23], чего не было в Конституции Казахской ССР 1978 года. Самым главным является то, что в Декларации дано определение единственного «носителя суверенитета и источника власти» – народа Казахстана.
Принятие Декларации является самостоятельным типом ОД по той причине, что этот нормативный правовой документ допускает вхождение страны в иные геополитические образования (Союз Суверенных Республик)[24], хотя оговаривается особое условие о праве свободного выхода из этого Союза. Эта статья подразумевает возможность делегирования со стороны народа части суверенитета надгосударственным органам управления.
Это связано с тем, что во многом Декларация была основана на общественном консенсусе, который можно считать и противоречием, возникшем в результате двух взаимоисключающих исторических трендов – поэтапной самоликвидации СССР и результатами Всесоюзного референдума за сохранение СССР (17 марта 1991 г.). Несмотря на то, что этот референдум был организован позднее «парада суверенитетов», он определил собой особенность содержания Общественного договора, характеризующего противоречия между стремлениями элит и инерционным юнионистским сознанием широких масс населения бывшего СССР. Напомним, что 94,1 % казахстанцев проголосовало на нем в пользу сохранения союзных отношений[25].
Вторая Республика (1991-1995). Второй тип ОД, который условно можно назвать периодом Второй Республики, базируется на двух правовых документах – «Законе о государственной независимости Республики Казахстан» (1991) и Конституции РК 1993 года.
Первый провозглашает за народом Казахстана полную самостоятельность решений, не предусматривая возможности их делегирования каким бы то ни было надгосударственным органам, таким образом завершая короткий период первого юнионистского Общественного договора.
Особенность Конституции 1993 года определяется в основном тем, что она носила характер парламентской республики. Это выражалось, в частности, в Главе 12, Статье 62-й, провозглашавшей «высшим представительным органом» в первую очередь Верховный совет.
Задачами этой Конституции являлось закрепление и развитие тех трендов, которые были образованы в общесоюзном масштабе в рамках СССР еще в период горбачевской перестройки. В сущности, они в основном определялись доминантой внешнего заказа, который в то время формулировался в большей степени Западом, как главным заказчиком структурных реформ на постсоветском пространстве. В тот период существовало три основных ориентира – приватизация (разгосударствление собственности и переход от плановой экономики к свободному рынку), права человека, реальная свобода слова (демонтаж тоталитаризма, как политического строя, «декоммунизация» общества).
Основной конфликт в области структурных реформ в тот период лежал в экономической сфере. Он заключался в том, что тип приватизации, возникший в СССР, тормозил масштабы первоначального накопления капитала уже в независимом Казахстане. Практика того периода в РК была следующая – абсолютный laissez faire в области самостоятельной предпринимательской деятельности «с нуля», но наличие традиционных ограничений со стороны приватизации флагманов экономики. Эти ограничения во многом были связаны с ограничением их полной приватизации, оставаясь в рамках возможности передачи в «право управления» иностранцами или отдельным частным группам. Это был постсоциалистический метод приватизации, где основная роль уделялась не столько созданию класса собственников, сколько преимуществу трудовых коллективов предприятий в приватизации заводов и агропредприятий. В тот период даже существовали выборы руководства предприятий голосованием работников предприятия или Советом трудового коллектива. Главным социальным заказом являлось то, что работниками были обещаны акции тех предприятий, на которых они работали. С этой целью проводилось массовое акционирование крупных предприятий. Это сопровождалось попытками создания в стране эффективного рынка ценных бумаг путем создания фондовых бирж.
Одним из главных составляющих ОД того периода можно считать два базовых тренда – массовая приватизация жилого фонда (1993-1995) и так называемая «ПИК-овая приватизация». Первый тренд произвел фундаментальные изменения в сфере собственности жилья, превратив все население из арендаторов в его собственников. Второй тренд фактически произвел отчуждение граждан и трудовых коллективов от возможности участия в приватизации той собственности, которая была создана в предстоящие периоды истории – от флагманских высот экономики Казахстана, оторвала работников от перспективы стать акционерами предприятий, на которых они работали.
Существует еще один, третий, базовый тренд того периода – это создание финансовой основы для Общественного договора отечественного образа – в ноябре 1993-го года создал суверенную финансовую систему на основе собственной валюты – тенге.
Третья Республика. Особенности Второй Республики в основном определяются сравнением с Конституцией 1995 года, с экономической точки зрения взявшей курс на создание крупного частного собственника в стране и широкое привлечение во флагманские сектора экономики иностранного капитала, складывания национальной буржуазии преимущественно по компрадорскому образцу.
Принятию Конституции 1995-го года предшествовала ликвидация вертикали Советов – от местных до Верховного Совета, исполнявшего роль парламента Казахстана. В результате изменений была ликвидирована парламентская и создана президентская республика. Это означало кардинальную смену типа Общественного договора, поскольку, по сути, происходило переучреждение государства – создавались новые органы власти (Мажилис, Сенат, маслихаты), ликвидировалась прежняя система самоуправления, должность президента становилась высшей руководящей и представительной должностью в стране, Конституционный суд был заменен на Конституционный Совет.
Важнейшим элементом при этом переходе является период с марта по декабрь 1995 года, когда в стране вообще отсутствовала законно избранная законодательная ветвь власти. За этот период президентом Назарбаевым единолично были принят 511 указ, из них 132 имеющих силу закона[26]. Этот пакет лег в основу создания в Казахстане современной экономической системы олигархического типа.
К 2000 коду президентская система сложилась в суперпрезидентскую[27], с принятием «Закона о первом президенте Республики Казахстан – Елбасы», в которой поэтапно укреплялся статус такого отдельного сословия, обладающего большими правами, нежели остальные граждане Казахстане, как Н.Назарбаев и его семья.
Таким образом в стране сложился третий тип Общественного договора с момента создания Независимого Казахстана. Основным трендом его развития является перманентное следование, а также дальнейшее укрепление и развитие основного постулата правления Нурсултана Назарбаева: «Сначала экономика, потом политика». Результатом трансформации этого лозунга в зависимости от задач периода главная тенденция оказалась неизменной – поле существования Общественного договора – конкурентная политика – постоянно была направлена в сторону сокращения и доведена практически до полного исчезновения.
Во многом этому способствовало то, что в ХХI веке значительно усовершенствовались политические технологии манипулирования общественным мнением и политическими результатами. В результате стали возможными такие прецеденты как появление в 2007-м году однопартийного парламента или возникновение целого комплекса квази-политических организаций и партий.
Главной проблемой, легшей в основу исчезновения существующего Общественного договора, стала квази-парламентская система, в результате деятельности которой возник целый свод законов и подзаконных актов, прямо противоречащих букве Конституции. Это «Закон о социальном заказе», «О митингах и уличных шествиях», «Закон об исполнительном производстве и судебных исполнителях» и пр.
Прямым нарушением Конституции является также дипломатическая практика, связанная с вхождением Казахстана в Евразийский и таможенные союзы, поскольку в ней не предусматривается делегирование суверенитета наднациональным органам.
В 1997-м году президентом Н.Назарбаевым была озвучено послание нового типа, “Казахстан-2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев», известное больше как «Стратегия 2030». По своей сути она должна была сыграть роль идеологической основы Общественного договора власти с народом Казахстана.
Период третьего ОД можно условно разбить на две основные части. Первая прошла под лозунгом перманентных «реформ». Однако к середине 2010-х годов идеология постоянного реформирования приобрела определенное моральное устаревание и была отменена. Этому способствовали также т.н. «тучные годы», позволявшие включить в Общественный договор вторичное перераспределение среди населения ренты с продажи национальных богатств. Однако этот период закончился с кризисом 2007 гг. и началом падения цен на энергоресурсы.
Фактором, значительно ухудшающим качество ОД в Казахстане, является системная коррупция, которая в условиях «тучного» взимания ренты и глобальных рецессий приводит к совершенно противоположным и катастрофическим результатам, поскольку бенефциары пирамиды и системной коррупции, и взимания ренты одни и те же, но перераспределения «вниз» уже не существует, напротив, затраты на коррупционную ренту включаются в цены и создают завышенные себестоимости товаров и услуг.
Таким образом, к настоящему периоду, Республика Казахстан подошла к периоду, когда позиция по Общественному договору в обществе должна быть тщательно проанализирована и пересмотрена. Общество не может существовать без установленных «правил игры», перманентно нарушаемых с одной стороны в сочетании с перманентным требованием их соблюдения с другой. Тем более тогда, когда эти «правила игры» исчезают во всех сферах, где существует и функционирует такое понятие как Общественный договор.
- Основные поля функционирования Общественного договора. Сферы, в которых стабильно существуют и происходят смены парадигм ОД.
Проанализировав теоретические первоисточники и исследования, проведенные и продолжающие осуществляться в указанных странах, а также в международных институтах[28], данное исследование может обозначить основные поля, в которых существует Общественный договор и в которых должны быть осуществлены изменения, если этот договор нуждается в обновлении или пересмотре.
Где проявляется Общественный договор, в каком поле реализуются его основные парадигмы и функции? В общем и целом, это поле называется политикой, в рамках которой осуществляется взаимоотношения власти и граждан.
По этой причине лозунг, провозглашенный в своё время президентом Назарбаевым «вначале экономика, а потом политика», уже содержит в себе принципы отстранения граждан от участия в Общественном договоре.
Основной задачей ОД является организация общества, отношений внутри него власти и граждан, на основе представлений о легитимности. Как говорилось выше, под легитимностью не подразумевается соответствие позитивному праву, поскольку это право создается властями, а соответствие естественным представлениям граждан о справедливости.
Определяющей функцией ОД является умение гражданского сообщества делегировать. Делегировать не только власть, но и многие другие социальные функции тоже.
Понимание полей и сфер действия ОД дает представление о том, где и как может та или иная политическая группа осуществлять изменения, корректировку или восстановление доверия населения к Общественному договору и о типе общественных отношений в целом.
1.
Главным полем существования ОД при республиканском строе (и в конституционных монархиях) является выборная система. Это первый индикатор того, что граждане обладают основным гражданском правом – правом делегирования, избирать и быть избранным. Это основная норма, вокруг которой строится представление о существовании или исполнении Общественного договора и о легитимности представительных институтов власти.
Доверие к системе представительства граждан лежит в основе любого ОД. А потеря его является одним из первых факторов, которые неизбежно ставят гражданское общество перед задачей смены Общественного договора. Как мы видим из опыта релевантных стран и вообще международного опыта, именно с полной потери доверия к избирательной системе начинаются многие революционные движения и переход народа с желания договариваться на поле использования права на восстание.
Играет ключевую роль само содержание выборного законодательства, а также разрыв между его декларированным и реальным состоянием. Особенно остро воспринимается как поражение в избирательных правах, так и в поражении прав быть избранным.
В Казахстане, как известно, оба права поражены действующим законодательством, в котором юридическое равенство граждан перед законом, провозглашенное Конституцией, не соблюдено (свод законов о первом президенте, свод законов о государственной службе, формирование парламента по партийному списку, процедура выборов депутатов от АНК). Фактически в стране имеется конституционный конфликт между буквой Конституции, утверждающей равенство граждан в правах и законами, дезавуирующими её положения.
Органом, во многом зеркально отражающим состояние ОД, является Центральная избирательная система, степень доверия граждан к ней и к механизму выборов в целом.
Манипулирование любыми результатами выборов (а в Казахстане ни одни выборы не просто не признаны международным сообществом, но и общественным сознанием), привело к тому, что основа основ выражения мнений при заключении или перезаключении Общественного договора в политической системе страны не существует. Нет механизма, который мог бы экстраполировать мнение граждан и общин на общенациональную дискуссию, потому что разрушен главный инструмент делегирования.
Отсюда и возникновение традиционных институтов, имитирующих делегирование мнений граждан – сеть Общественных советов и такие организации как Национальный совет общественного доверия, который является навершием этой «имитационной системы» делегирования полномочий.
Показателем кризиса делегирования является и крайне короткий список выборных должностей, в которых отсутствуют должности акимов мегаполисов, городов и областей. На заре Независимости это объяснялось (неофициально) неготовностью населения избирать достойных, противостоять сепаратизму. В дальнейшем этот тезис безнадежно устарел, но изменений в ОД так и не было осуществлено.
Выборы в Мажилис по партийным спискам окончательно оторвали депутатов не только от населения, но и от реальной политики, полностью дискредитировав именно идею представленности граждан и земель в законодательном органе страны. Иными словами, изъяли его из сферы жизни ОД (политики) и переместили его в сферу политических технологий.
- В качестве резюме: никакие эволюционные реформы и тотальные изменения ОД в Казахстане невозможны без изменений в области делегирования полномочий, а именно без транспарентной и легитимной в глазах граждан избирательной системы, поскольку любой субъект, носитель идей изменений, избранный по существующей системе, не будет обладать мандатом легитимности в процессе формирования ОД.
2.
Вторым по значимости полем существования ОД является правовое, а именно состояние Конституции, законов и того, насколько власти предержащие сами придерживаются тех законов, которые они издали на основе делегирования им соответствующих прав.
Конституция формирует собой свод позитивного права, исполнение которого должно стать обязательным к исполнению всеми сторонами ОД, как делегирующими, так и теми, кому власть делегирована.
Свод законов не просто упорядочивает отношения власти и общества, но и предоставляет гарантии в соблюдении прав, свобод и норм безопасности для граждан.
Вероломное неисполнение правовых норм одних и других должно компенсироваться справедливой судебной системой, которая по замыслу уравнивает в правах тех, кто у власти и тех, кому она делегирована.
На примере Казахстана можно наблюдать еще один слой нарушений публичного общественного договора – это манипулирование с позитивным правом, с Конституцией. Законодательная система выстроена так, что законы и подзаконные акты напрямую могут противоречить букве Конституции, а значит одной из основных норм ОД. Граждане при этом лишены возможности доказать это, поскольку поражены в правах на уровне Конституционного Совета, на практике толкующего правовые конфликты совершенно неконкурентным способом, а именно на основе политического заказа власти.
- В качестве резюме: Общественная мысль в Казахстане, ее новейшие тенденции, сформировавшиеся после того, как президент Токаев объявил о необходимости оживлять межпартийную конкуренцию, демонстрируют устойчивый тренд на реставрацию республиканских отношений и смене Конституции, как правового свода, не соответствующего представлению современных граждан Казахстана, как правовой основы Общественного договора (платформы «Оян, Казахстан», партий Республика, ХАК, Демократической партии, ОСДП, отдельные высказывания политиков).
Таким образом, конституционная реформа видится в качестве второго основного тренда в сфере создания нового ОД в Казахстане.
3.
Третьей важнейшей сферой действия ОД является система наказаний за нарушение его норм. В узком ключе это определяется в виде системы уголовных и административных наказаний, которые выносит суд, стоящий на страже ОД.
В этом смысле мы видим дискредитированную судебную систему в Казахстане, которая в глазах граждан не представляется институтом отправления справедливости. Образ невозможности защитить свои имущественные интересы, свое гражданское достоинство и свои политические взгляды, крепко закрепился за судами страны. Имидж коррумпированного судьи подтверждается как на уровне экономических арбитражных решений, так и в случаях, когда суд отражает политический конфликт.
Фактически суд является частью системы политических репрессий, инструментом, которые не позволяет ОД реализоваться в стране именно в форме договора, где существует две полноценные стороны, а не одна доминирующая политическая воля.
В то же время сфера нарушений ОД в философском видении представляется гораздо шире функций судов и системы наказаний. Сюда входит и понимание правомерности и неправомерности смертной казни, наказательный или перевоспитательный характер пенитенциарной системы, грани между жестокостью и достаточностью возмездия и т.п.
К этой же сфере, которая по своему содержанию представляет собой, на первых взгляд, вертикальный срез – от государства обществу – относится и такой горизонтальный срез, как правосознание.
Оно отличается от правовой системы, принуждающей граждан к определенной форме поведения тем, что предусматривает следование граждан правовым нормам не только по принуждению, но и добровольно и инициативно.
Как правило, высокий уровень правосознания не присущ постсоветским обществам, в которых еще со времен СССР существует в остаточной форме тотальное отрицание сотрудничества с полицией, активного отношения к гражданскому долгу. Источники этого явления можно равно найти как в «модусе операнди» полиции, так и в образе мышления граждан. Однако результат состояния остается на поверхности – правоохранительные органы и граждане чаще всего находятся по разным сторонам социальной стены.
Одной из причин сохранения такого состояния является чрезмерная политизация всей системы внутренних дел от министерства до муниципальной полиции. Необходимо провести экспертное исследование по данному вопросу.
- Резюме: Третья сфера существования ОД необязательно связана с уровнем социального эгоизма властвующих групп. В области наказания за нарушение норм Общественный договор основывается на традиционной ментальности граждан и их представлениях о жестокости наказании и милосердии. В то же время восприятие гражданами суда, как субъекта ОД значительно шире рамок позитивного права. Здесь в максимальной мере проявляются естественные представления граждан о том, что они считают справедливостью. При этом, в частности в восточных деспотиях, одной из основных функций государя является именно осуществление справедливого суда, как одной из главнейших функций[29]. Не зря в ближневосточных религиях одной из основных функций и божественного царствования является акт Судного дня.
4.
Следующей важнейшей сферой, в которой реализуются развитие или изменения Общественного договора являются принципы социального роста. Речь идет не только о продвижении по чиновничьей лестнице, а в общих принципах существования социальных лифтов в обществе. Сюда входят: принципы обогащения, карьерного роста, творческой славы, научного авторитета и критерии к параметрам популярности в той или иной форме.
Этот аспект содержит две основные парадигмы – право на плоды собственного труда и предприимчивости, а также права на долю в совокупном национальном богатстве.
Очевидно, что это один из самых сложных и многоплановых пластов отношений, поскольку охватывает чрезвычайно широкие и многоплановые понятия, начиная с неприкосновенности частной собственности, бизнес-климата в стране, заканчивая представлениями о функционировании таких сложных систем, как пенсионная, банковская, бесплатной медицины или бесплатного образования.
Как мы можем наблюдать в Казахстане, граждане чрезвычайно чутко реагируют на то, каковы источники обогащения того или иного человека. Во многом у нас доминирует постсоциалистический нигилизм, который считает, что каждый частный капитал является результатом не существования, а вероломного нарушения ОД, то есть приобретен незаконно. При этом под незаконностью подразумевается не понятие позитивного права, а именно представления из области естественного права. Представляется необходимым по данному вопросу провести количественный опрос.
При этом власти не решили одну из основных задач общественных договоров периода первоначального накопления капитала – не создали представления граждан о легальном богатстве, каким оно должно быть. Здесь также рекомендуется провести социологическое исследование в форме массового опроса о стереотипах в вопросах происхождения богатства и бедности.
К этому же полю относятся проблемы коррупции, защиты частной собственности и рейдерства, целесообразности вести активную предпринимательскую деятельность.
Коррупция является наглядной дополнительной рентой, которая входит в пакет обогащения правящего класса. Коэффициент коррупции в Казахстане является устойчивым параметром при планировании стратегического менеджмента, да и просто индивидуальной частной инициативы. Расчет «нормальной доли» коррупции стал настолько реальным фактором, что преподается в курсах МБА и ДБА[30].
Авторитарные режимы имеют четкое отличие от тоталитарных тем, что авторитарные элиты распределяют только крупные экономические домены, оставляя средний и мелкий бизнес на свободу laissez faire. Тоталитарные экономики не брезгуют тем, что распространяют свой контроль на уровень малого и среднего бизнеса, создавая сети контроля на базарах, в ресторанах и мелких сервисных фирмах. Фактически в Казахстане, за счет нескольких волн рейдерского распределения, установилась тоталитарная платформа бизнеса, когда даже самые маленькие частные инициативы собраны в сети, вертикально подчиняющиеся той или иной крупной олигархии.
То, что Национальный фонд, его накопления, часто были предметом предвыборных платформ, является одной из ярких иллюстраций того, что гражданин Казахстана не ощущает себя участником ОД, который справедливо распределил бы доходы от общенационального богатства. Не решены ни ментальные формулы баланса между легитимным обогащением от национальных богатств, ни легитимным распределением остатка ренты.
К этой же сфере относятся оценочные отношения граждан к общественным фондам и сборам – прежде всего к сбору налогов и к способу их распределения, к пенсионной системе.
Это классический пример дуализма подходов и к неверности контрактуализма в ОД, конфликта ментальных и числовых показателей. В цифровом выражении налоговая система в Казахстане изымает очень низкую долю, но при этом она не обладает ни толикой легитимности по нескольким причинам – по причине недоверия к распределению властью собранных налогов, по причине того, что сборы налогов включены в ренту обогащения правящим классом, при этом доля гражданина в доходах флагманской экономики нисколько не учтена. Тот же самый тип мышления распространяется и на пенсионные накопления, доверия к которым практически одноактно были разрушены сомнительными с точки зрения населения гиперпроектов ЭКСПО и застройки Астаны в целом.
- Резюме: Данная сфера, в отличие от следующего пункта касается участия в ОД тех, кто способен заниматься активной трудовой и предпринимательской деятельностью. Поскольку Казахстан пребывает в сфере капиталистических общественно-экономических отношений, в основе которых лежит предпринимательство и извлечение выгоды, это также одно из важнейших полей, без реформы в которой реформа ОД представляется невозможной.
5.
В сущности, специалисты в области ОД определяют две формулы экономического функционирования ОД. Первая исходит из формирования социального пакета для населения. Вторая – вначале снимает ренту, а лишь затем формирует социальный пакет из остатков ренты. Очевидно, что казахстанские общественные отношения основаны на втором типе.
Через эту призму мы видим еще одну сферу реализации ОД в обществе – сферу социальной политики, социально ориентированного государства. Выражаясь короче, это сфера состоит из двух частей – сферы гуманизма и сферы человеческих инвестиций в будущее.
В обоих случаях речь идет о тех слоях общества, которые отошли от активной трудовой или предпринимательской деятельности или еще не приступили к ней, и поэтому не могут претендовать на прямые результаты своего труда.
Сюда входит состояние основных социальных систем общества – дошкольного воспитания, школьного и высшего образования, пенсионная система, система здравоохранения для этих двух групп, благотворительность и другие сферы вторичного распределения и т.д.
Также в эту сферу можно включить демографические программы, адресную социальную помощь, программы социальной реабилитации.
Одной из ключевых частей этого направления является политика, осуществляемая государством по отношению к безработным. Причем к безработным различного типа – хроническим, временным или квалифицированным.
В Казахстане это направление во многом базируется на основе того, что в стране существует «выдуманная» категория самозанятых, определение которых из пропагандистских целей откладывается все дальше и дальше. Типологизация самозанятых, которые не представляют собой единый социальный тип, а напротив разнятся от квалифицированных безработных до молодежи внесистемного заработка, не завершена и по ней отсутствует четкое общественное понимание. В результате в рядах бюрократии периодически возникают идеи обложить этих людей налогами и сделать это внесистемно, «под общую гребенку». В результате эта среда мгновенно может превратиться в casus resistandi (поводом для восстания), источником перехода населения от желания вести общественный диалог к праву на восстание.
- Резюме: сферы социальной политики, социального государства более всего оперируют понятиями естественного права, поскольку определяются понятиями «человеколюбия», «чадолюбия», основанных на естественной традиционной любви к детям, старикам, к помощи ближним. На этом фоне наиболее ярко виден в обществе коэффициент социальной дифференциации. Это источник любого политического популизма, но в то же время это поле дискуссий для активного формирования ОД. Очевидно, что никакой ОД не может миновать сферы строительства социальной политики государства.
6.
Следующей важной сферой существования ОД является область морально-этических норм, но не в плане их содержательности, а в плане общности ценностей, существующих у гражданского общества, делегировавшего право на власть элитам и у элит, принявшим это делегированное право.
Это также является многоаспектной сферой. В ее основе могут лежать религиозные нормы, традиционные ценности и светские представления о морали и этике. Они распространяются не только на тех, кому делегированы те или иные властные полномочия, но и требования к их моральному облику, образу жизни их семей, включенности их в правовую систему и систему наказаний.
Специфика сферы заключается в том, что она практически не регулируется никакими правовыми нормами. К праву оно имеет отношении лишь в том, насколько равным является положение тех или иных персон к системе вынесения справедливого возмездия, в суде.
К примеру, уход в отставку чиновников разного уровня это не правовой показатель, а показатель морально-этического плана, призванный демонстрировать то, что и делегировавшие властные полномочия и принявшие это делегирование находятся в одной общей морально-этической системе ценностей. Акт подачи в отставку является декларацией этого единства ценностей.
- Резюме: Казахстанская практика демонстрирует то, что у граждан и у элит совершенно различные подходы к морально-этическому облику. Эта ситуация напоминает гражданину о том, что по Общественному договору у нас в стране есть только вертикальная составляющая, формирующая отличия, а не горизонтальная, консолидирующая членов единой нации. В связи с этим указанная сфера является еще одним обязательным полем, в котором происходит перезапуск общественных отношений.
7.
Наконец последняя из важнейших сфер существования Общественного договора, и она является одной из сложнейших в осмыслении. Это сфера делегирования определенным кругам элит права формировать мировоззрение и идеологические взгляды.
В наиболее крупном масштабе это право может быть распределено между религиозным миропониманием или исключительно научно-материалистическим. А может и строиться на их симбиозе.
В идеологическом срезе это может быть акцентом на определенные идеологические платформы – либеральные, националистические, имперские, социально-демократические, коммунистические, архаистические и прочая.
В культурном плане права на формирование мировоззрения может быть отдано на откуп массовой культуре или предметам высокого искусства.
В политтехнологическом плане, при всей фундаментальности этой сферы, она является наиболее манипулятивной. Но в тоже время и уязвимой для вторжения моделей масс-культур и философии чужих государств и чужих ценностных систем в общественное сознание той или иной страны.
В этой сфере происходит и идеологические столкновения философии, истории и науке о государственном управлении. Потому что именно в этой сфере обсуждается главное – это историческое право той или иной нации на территориальный суверенитет над принадлежащей ей территорией и на право независимого культурного и цивилизационного развития.
По большому счету именно в этой сфере происходит основная «война умов» вокруг состоятельности государства, той или иной нации. Из нее исходят геополитические ориентиры, в том числе и политического характера. Здесь и формируется позиция тех граждан, которым предстоит принять участие в продлении или пересмотре Общественного договора.
Но эта сфера редко является сферой прямого управления. В основном оно основано на предикторах управления. Конечно, существуют и прямые акты, влекущие за собой целую цепь изменений в мировоззрении членов общества, вроде открытия первого университета или ликвидации Академии наук. Но в основном это, все же, сфера косвенного управления.
Вместе с представлениями о социальных лифтах эта сфера формирует представления о контурах «национальной мечты», наподобие «американской мечты», но это лишь один из аспектов. Сюда можно включать такие понятия, как имиджи и страновые бренды, стереотипы восприятия той или иной нации, международные рейтинги не как таковые, а те, что представляют собой ценность для идеологии внутреннего пользования.
Конечно же, сюда относится и делегирование формирования общенациональной официальной идеологии. Показателем ее успешности является наличие или потеря доверия гражданского общества к основным постулатом правящей идеологии. Делегирование мировоззрения не является видимым актом. Потеря доверия к правящей идее приводит к тому, что люди незримо делегируют право формировать идеологические ценности иным акторам – оппозиционным силам, зарубежным моделям или вообще антинаучной эклектике.
- Резюме: сегодня в Казахстане наблюдаются прецеденты переделегирования мировоззренческих основ с одних элит на другие. Рост религиозного мировоззрения означает то, что внутренние идеологические паттерны не справляются с ответами на ключевые вопросы людей.
Очевидный кризис отечественных источников идеологии от внешних факторов хорошо демонстрируется успешностью таких акций, как «Бессмертный полк», где традиционное казахстанское уважение к ветеранам войны успешно подменено кремлевскими идеологическими паттернами. И это означает лишь одно – слабость правящей элиты, неспособной организовать собственный паттерн в отношении Второй мировой войны.
В сущности, с кризиса идеологических рядов власти и начался полномасштабный кризис Общественного договора в стране, поскольку повлек за собой целый ряд вопросов, исходящих от рядовых граждан, на которые власти не захотели отвечать или отвечали способом, недостаточным для того, чтобы продолжать сохранять идеологическое лидерство.
- Практические исследования в области ОД. Право на восстание и его различные аспекты проявления. Функции акторов, принципы делегирования власти. Право на восстание, право на смену правительства, активная смена правительства (деловой переезд, эмиграция). Современное состояние права на восстание через призму теории революций и социальных катаклизмов. Конкурентность политики или ее монополизация – как это отражается на ОД. Одностороннее расторжение ОД. Области политического пиара, политических технологий и реальной политики.
В целом анализ исследований зарубежных релевантных стран говорит о том, что в теории Общественного договора и теории революции у науки Запада нет концептуального преимущества. Во многом это объясняется явлением, которое можно назвать ловушкой Фукуямы. Исчезновение СССР и социалистического лагеря в целом привело к тому, что Запад решил, что либеральная демократия, как победившая идеология, не нуждается в критическом анализе. Вопрос глобального развития состоит лишь в том, чтобы она скорее распространилась на наибольшее количество стран. В этот период максимальную силу приобрели такие ценностные организации как ОБСЕ, которые представляли себя единственным носителем глобальных ценностей.
К кризисам плебисцитарной демократии, таким как выборы Трампа и Брэксит, Запад оказался концептуально не готов. Об этом свидетельствует то, что в их исследованиях превалирует излишний контрактуализм и упор на цифровые показатели, нежели на сущностное содержание Общественного договора и представления о легитимности власти[31].
По этой причине сегодня в Казахстане нужно развивать собственную исследовательскую базу, для чего нужно принципиально изменить содержание опросов общества и задавать вопросы, которые апеллируют к основным сферам функционирования ОД.
Исходя из теории нужно изменить и отношение к прочтению результатов исследования общественного мнения. К примеру, в исследовании фонда Эберта[32] говорится об очень высоком уровне доверия к президенту и правительству. В то же время запрос на изменения оказывается практически равным этим показателям. Можно это трактовать как доверие к персоне президента и к персонам правительства, но тогда это не будет логически коррелировать с высоким запросом на изменения. Поэтому скорее всего речь идет не о персональном доверии, а о высокой готовности делегировать власть президентскому институту и институту правительства. К сожалению, таких дополнительных трактовочных вопросов в исследовании нет, а это и есть реализация задачи дойти до сути изменений в общественных отношениях.
В этом же исследовании мы можем наблюдать суждение о том, что у чиновников всех уровней, «слишком много прав», что говорит о значительном смещении баланса прав и обязанностей в сторону правящей группы.[33] Исследование также показывает высокий запрос на борьбу с коррупцией, на равенство и справедливость. Однако несмотря на то, что в Казахстане происходят видные невооруженным глазом социальные изменения, и происходили они именно в 2019-м году, они никак не отражены в такого рода исследованиях. В особенности того, каков запрос населения на изменения текущего статус кво.
Настораживает состояние теории революции и права на восстание, которое до сих пор трактуется в мире в рамках марксистско-ленинской теории и практики. Даже цепь так называемых «цветных революций» не получила должной теоретической проработки.
В то же время право на восстание примитивно воспринимается даже в экспертной среде как право на революционный или бунтарский акт, не понимая, что у этого права есть несколько уровней.
В сущности, цель этого права в смене правительства, власти. Восстание представляет собой лишь один из методов. Одним из первых уровней права на восстание является кардинальная смена истеблишмента путем перевыборов.
Поменять правительство можно и другим способом – это осуществить эмиграцию. Сегодня миграция это один из самых трендовых способов сменить Общественный договор и юрисдикцию. Достаточно вспомнить ситуацию в Европейском союзе.
Граждане Казахстана так же реализуют свое право на восстание и смену юрисдикции, мигрируя за рубеж. Опять же исследований, почему они это осуществили, не проводилось. Существует и более мягкая сфера миграции, такая как деловой переезд, когда меняется только бизнес-климат вместе со страной пребывания.
Революция и бунт являются лишь самыми крайними способами выйти из текущего состояния Общественного договора. Между ними и стабильным ОД расположена масса форм – от «дворцового заговора», военного путча до гражданского военного конфликта. И сама революция может быть «Бархатной», как при разводе Чехии и Словакии, может быть «революцией роз», а может быть суровым кыргызским бунтом.
В любом случае власти могут демонстрировать три уровня отношения к Общественному договору.
Первый. Это уровень политического PR
Второй. Уровень политических технологий.
Третий. Уровень изменений общественных отношений или realpolitik.
Как можно легко понять из классификации первые два способа не относятся к изменению ОД, поскольку являются манипулятивными техниками, направленными на изменение общественного мнения. Понятное дело, что это лишь временные и поверхностные изменения, истинная содержательность которых становится видна со временем.
Только третий уровень имеет отношение к реальному изменению типа ОД, поскольку касается изменений в общественных отношениях и касается изменений в базовых интересах социальных групп.
Еще один главный недостаток большинства проведенных исследований заключается в излишнем оперировании цифрами и формами, забывая о том, что realpolitik прежде всего является сферой интересов. И смена парадигмы ОД прежде всего должна состояться в сфере наполнения структур проявлением реальных интересов.
Так при правильно поставленном опросе общественного мнения можно быстро обнаружить то, кого граждане считают конечным бенефициаром в таких явлениях как системная коррупция и в таких системах как сеть банков второго уровня.
Работая в системе ценностей ОД, исследователь должен работать, прежде всего, в смысловой сфере, в не в системе структур и отдельных цифр, потому что сам ОД не является в полном смысле контрактом, а скорее сводом ценностных принципов делегирования и представлении о том, справедливо оно осуществлено или нет.
Сегодня в Казахстане существуют три группы экспертов, считающие что:
- Существующий Общественный договор обладает определенным запасом прочности, прежде всего исходя из ряда экономических показателей развития страны.
- Существующий Общественный договор нуждается в существенной коррекции, близкой к кардинальной.
- Существующий ОД в одностороннем порядке расторгнут со стороны политической элиты и поэтому не существует. Это говорит о необходимости переучреждения государства.
Как уже говорилось выше, контент большинства вновь образованных политических партий и течений руководствуется третьим тезисом. Но общим является одно определение, что нынешние контуры общественных отношений находятся в явно кризисном состоянии. Это не отрицается и представителями, защищающими первый тезис.
Так или иначе, процессу обсуждения ОД в стране дан активный ход. Запущена и главная среда, в которой существует – политика в лице конкуренции идей. Будет ли за ней успевать исследовательско-экспертная среда – пока является вопросом открытым. Останется ли конкуренция идей свободной или снова будет закрыта – тоже не содержит определенного ответа.
- Политические акторы, принимающие участие в перезагрузке ОД в Казахстане.
Контуры основных акторов в процессе их претензии на участие в формулировании нового ОД неплохо проявились в период так называемого транзита власти. Существует несколько закрытых от понимания факторов, которые просто покрыты информационным вакуумом, из-под которого не проглядывается реальная информация, а можно лишь предполагать наличие некоего бэкраунда.
- Прежде всего это первый президент Н. Назарбаев, история его ухода с президентской должности и фактически преемственнический способ передачи власти К.Ж.Токаеву. Н.Назарбаев был и остается системообразующим актором в вопросе организации общественных отношений в РК. Прежде всего потому, что он, уйдя от официальной должностной нагрузки, полностью сохранил свои политико-экономические интересы. Пока все сигналы, которые транслируются обществу свидетельствуют о том, что данному актору не нужны никакие изменения в ОД, более того, можно было бы и свернуть некие послабления, озвученные уже К.Ж.Токаевым.
- «Закадровым» бэкграундом здесь являются обстоятельства принятия им решения уйти с должности. Уход с нее, но сохранение интересов, позволяют говорить о том, что в транзите власти принимали участие внешние силы. Если это так, то эти самые силы играют и способны сыграть бОльшую роль во внутренней политике страны, нежели даже сам архитектор предыдущих ОД Н.Назарбаев.
- Отдельным актором можно считать нового президента страны К.Ж.Токаева. Его интересы пока публично не декларированы и реализуются пока в манипулятивной сфере политического PR. Насколько его интересы подойдут к границе пересмотра основных «правил игры» в экономике и в государственном строительстве пока неизвестно. Какие манипулятивные техники бы не использовал его пресс-штаб, пока существует их восприятие как поверхностных шагов, но никак не обращения к основам ОД в стране. В то же время запрос на новый ОД, восходящий именно к персоне Токаева, остается пока довольно высоким. Судьба этого запроса конечна – она определится тем, в каких условиях и «правилах игры» пройдут грядущие выборы в Мажилис. В этот период все реалии политических курсов обнажатся до максимальной степени открытости.
- Третьим актором являются «олигархические группы» и иные группы влияния, собравшиеся вокруг отдельных представителей элиты. Вообще, чрезмерная персонификация политики является в Казахстане ее основной характеристикой, подчас затемняющей идеологические платформы и сферы отражения реальных интересов. Здесь специфика акторов связана с тем, что уже с первого дня президентства Токаева, ими поставлен вопрос о том, кто будет уже следующим президентом.
Вопрос о «следующем президенте», который являлся табу при правлении Назарбаева, резко актуализировался в текущий период. Специфика этой группы состоит в том, что они пока формируют свои президентские амбиции латентно, не называя публично имена кандидатов. Об их наличии общественность судит лишь по весьма отдаленным косвенным признакам и слухам. Однако эти акторы безусловно существуют, потому что в период транзита все угрозы и возможности борьбы за президентский пост выделились особенно рельефно.
Далее следуют два аморфных актора, участие которых в формировании ОД неизбежно, но пока не вошло в стадию определенных контуров.
- Прежде всего, это совокупное понятие «народа Казахстана». Не нации, не гражданского сообщества, а именно такой зачаточной формы. Данный актор вошел в транзитный период абсолютно в неорганизованном состоянии, отлученном от односторонне разорванного ОД, не успевшим сформировать никакие политические тренды.
Специфика этого актора заключается в стремительном обретении своей субъектности, за которой развитие предыдущих акторов явно не поспевает. За короткий период широкие массы умудрились пройти дистанцию от неорганизованной аполитичной массы до самоорганизации в виде партий. Причем как бы не говорили некоторые эксперты, что сегментирование электората на партии ослабляет общегражданское единство, на деле происходит противоположное.
Конечно, идет создание новой персонифицированной политики, но, если предыдущие акторы решат объединиться по вопросу совместного распыления политической активности, есть вероятность того, что и вновь созданные партии отреагируют солидарно. Концептуально новой политической доктрины со стороны казахстанского истеблишмента пока не наблюдается. Пока речь идет об искусственном сужении конкурентной среды, вытеснении общественной мысли из среды публичной легальной политики в ряды открытого противостояния власти.
- Следующего актора не принято принимать во внимание, потому что у него якобы отсутствует единая парадигма интересов. Это отечественная бюрократия, точнее административно-силовая государственная вертикаль, представленная т.н. средним звеном управления. Однако в потенциале у этой группы, состоящей из двух принципиальных частей – центрального административного аппарата и областных вертикалей – существует масса инструментов влияния на политическую ситуацию.
В периоды кризисов эта вертикаль служит постоянным источником «черных лебедей», скандалов, технологических катастроф, административного головотяпства и излишнего рвения. В определенной ситуации могут проявляться такие функции как саботаж и создание искусственного хаоса, а также обрушение исполнительной вертикали. Так же можно предполагать о выходе целых вертикалей из подчинения центральной власти. Фактически в руках у этого массового актора находится такой разрушительный феномен, как создание ситуации «несостоявшегося государства».
Объединяющим же началом, из-за которого следует эту группу рассматривать самостоятельно, служат интересы, отличные от интересов центра, имеющих региональный характер. А в самом центре эта группа выделяется по имущественному принципу. Отдельное самостоятельное исследование позволит четко проследить, как эта среда создала ситуацию, когда многие законопроекты были рождены внутри нее и продвинуты благодаря некоторым узковедомственным интересам, и которые заложили под общественные отношения правящей группы потенциал саморазрушения. На основе этого процесса и выстроено большинство противоречий законов Конституции.
Очевидно, что это лишь укрупненная стратификация акторов, каждая из которых, даже персоны двух президентов, сегментируются на большие и малые группы, различающиеся по детализированным интересам. Однако эта детализация хороша лишь при разработке отдельных политических кампаний, иначе она затмевает базовые интересы акторов, способных участвовать в формировании нового ОД.
Так внешние акторы разделяются между собой спецификой каждого Центра силы, его экономическим доменом, контролируемом в Казахстане. Здесь есть международные организации. На ситуацию в нашей стране будут влиять мировые «черные лебеди», системные кризисы и военные конфликты.
В среде «народа» можно провести отдельную стратификацию, выделяя бизнес-круги, социально уязвимых, иные социальные группы. Однако страты, взятые отдельно, не могут самостоятельно выступать носителями легитимности. А ее установление – важнейший вопрос ОД.
Олигархические группы составлены в отдельный субъект не по причине наличия у них оригинального подхода к политике, а по причине того, что в нашей стране в их руках сконцентрированы практически все базовые экономические домены и, соответственно, через них реализуются интересы по их защите и увеличению.
Так всю структуру госаппарата и квази-госсектора не следует рассматривать как отдельного самостоятельного актора в силу того, что она сформирована в интересах первых трех акторов, но одновременно является для них фронтом постоянного политического противостояния по укреплению своей аппаратной силы, а значит и по влиянию на перераспределение ренты.
Таким образом, в вышеописанных главах описаны сферы существования ОД, а также характеристики и роль основных акторов, способных внести в эти пространства сущностные изменения в области формирования ОД.
[1]Расул Жумалы «Общественный договор – между декларациями и реальностью», «Власть», 2014. http://www.exclusive.kz/expertiza/obshhestvo/11754/ . Д.Кадыржанов. «Общественный договор или право на восстание», 2019, https://www.youtube.com/watch?v=TW0fs40-JGQ
[2] “Общественный договор в Казахстане: проблема диалога» — материалы по экспертному обсуждению «Гражданин и государство: сойтись характерами», 2014, Алматы. http://sayasat.org/articles/915-obshchestvennyj-djogovor-v-kazahstane-problema-djialoga. Материалы дискуссионного клуба «Атамекен» при НПП, 2015, Алматы. https://www.zakon.kz/4744957-nuzhen-li-kazakhstancam-novyjj.html (Добавить) — Материалы Круглого стола «Талап», 2019, Алматы.
[3] «РК рассматривает АНК как институт общественного договора между властью и обществом», Астана, 2014. https://strategy2050.kz/ru/news/27583/
[4] Гоббс Т. Философские основания учения о гражданине. — М.-Минск: АСТ, Харвест, 2001.
[5] Гоббс Т. Избранные сочинения, т. 1-2. — М. — Л., 1926.
[6] Локк Дж. Соч.: В 2 т., М., 1960.
[7] Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре. Трактаты, — М.: Канон-пресс Ц, 1998.
[8] «Сиясет наме. Книга о правлении везира ХI столетия Низам ал-Мулька» — М.: Изд-во АН СССР, 1949, С.14.
[9] Ebrey, Walthall & Palais, 2006, p. 91.
[10] Там же, р.91-92
[11] Ортега-и-Гассет Х. Восстание масс // Избранные труды. — М.: «Весь мир», 2000.
[12] Токвиль А. Демократия в Америке. М., 2000.
[13] Токвиль А. Старый порядок и революция. – М. – Челябинск: ИД Социум, 2017.
[14] Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. – М.: АСТ, 2004.
[15]«Макрон в обращении к нации: мы должны создать новый общественный договор»
https://rossaprimavera.ru/news/54e3f3b7, 2018.
[16] «Темелли: Cтране нужен новый общественный договор», ДПН призывает людей голосовать за реальные изменения и новый общественный договор с гражданами. https://anfrussian.com/, 2018.
[17] А.Шлыков «Турецкая модель» от евроинтеграции к девестернизации», https://globalaffairs.ru/global-processes/Turetckaya-model-ot-evrointegratcii-k-devesternizatcii-19629, 2018.
[18] А.Аузан.»Общественный договор» Цикл лекций, https://postnauka.ru/video/3634, 2012.
[19]Украине необходим новый общественный договор, – Андрей Николаенко, глава политической партии «Основа». https://lb.ua/news/2018/02/12/389902_ukraine_neobhodim_noviy.html, 2018. «Новый общественный договор начнется с отчуждения олигархата и его обслуги от «кормушки», https://gazeta.ua/ru/articles/poglyad/_2019go-ukraina-vojdet-v-sovershenno-novuyu-epohu/868057, 2019.
[20] Константин Паршин (Хартия будущего): Украине нужен Общественный договор и отказ от выборов, https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/konstantin-parshin-hartija-buduschego-ukraine-nu-351926/, 2019.
[21] Егор Гайдар в гостях у В. Познера. https://www.youtube.com/watch?v=-_Kcxqmz3ik&t=4s
[22] Сапаргалиев Г. Конституционное право Республики Казахстан: Академический курс. – Алматы: Жеті жарғы, 2002. С.65.
[23] «Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР», г.Алма-Ата, 25 октября 1990 г., Статья 4.
[24] Там же, Статья 1.
[25] Об итогах референдума СССР, состоявшегося 17 марта 1991 года (Из сообщения Центральной комиссии референдума СССР) // Известия. — 1991. — 27 марта.
[26] Н. Трубецкой, «Политический лидер Казахстана».
[27] Термин «суперпрезидентская республика» предложен обществу Е.Ертысбаевым. см. Институт президентства как инструмент модернизации посттоталитарных транзитных обществ (на примере Республики Казахстан): Материалы международной конференции. – Алматы, 6 апреля 2001 г.).
[28] Немат Шафик. «Новый общественный договор. Преодоление опасений относительно технологии и глобализации означает переосмысление прав и обязанностей граждан». Финансы и развитие, ежеквартальный журнал Международного валютного фонда, Выпуск 55, Номер 4, Декабрь 2018.
[29] «Сиясет наме. Книга о правлении везира ХI столетия Низам ал-Мулька», Москва, Изд-во АН СССР, 1949, С.18.
[30] И.Гурков. «Стратегический менеджмент», Курс лекций для слушателей ДБА.
[31] Немат Шафик. «Новый общественный договор. Преодоление опасений относительно технологии и глобализации означает переосмысление прав и обязанностей граждан». Финансы и развитие, ежеквартальный журнал Международного валютного фонда, Выпуск 55, Номер 4, Декабрь 2018.
[32] «Ценности казахстанского общества в социологическом измерении», Фонд им. Эберта, Представительство в Казахстане, Алматы, 2019, Стр. 66.
[33] «Ценности казахстанского общества в социологическом измерении», Фонд им. Эберта, Представительство в Казахстане, Алматы, 2019, Стр. 122.
(2020г.)
Формулирование и взаимозависимость запросов основных социальных страт
- Формулирование запросов государственной власти в рамках нового общественного договора
Представления о том, что «государственная власть» является единой и однородной социальной стратой, являются ошибочными. Понятие «государственная власть», как единое целое, является скорее публицистическим эвфемизмом, нежели законченным научным определением.
С точки зрения Конституции, существуют различные ветви власти, наделенные каждая своими особыми функциями. Внутри исполнительной власти есть отраслевые ведомства с совершенно разным функционалом – социальные, силовые, финансово-экономические и т.д. Даже понятия «госаппарат» или «административно-государственная вертикаль управления» также близки к публицистическим эвфемизмам.
Даже четкое правовое определение «государственные служащие», не отражает всей специфики этой страты. К представлениям о государственной власти относятся некоторые общественные организации, созданные по заказу «из центра», воспринимаемые как часть бюрократической системы. К этому же понятию относятся и официальные СМИ, заказ к которым исходит «из центра», несущие основную нагрузку в осуществлении коммуникаций с широкими слоями общества.
В Казахстане существует также квази-государственный сектор, принципы управления в котором близки к административным методам госаппарата. Внутри него есть сектор естественных монополистов. В некоторых отраслях частным компаниям делегировано исполнение государственных функций. Существует высшее руководство (decision makers), среднее звено управления, пронизанное собственной сетью экономических и социальных интересов, а также классический «офисный планктон». Важное место занимает страта «бюджетников», чей доход полностью формируется государством.
Существует также и отдельная страта, которая исторически сложилась в Казахстане в виде персоны «Лидера нации – Елбасы», обладающего отдельно сформулированным функционалом и обладающим совершенно самостоятельной политической идентичностью.
Очевидно и то, что у каждой упомянутой страты есть свое социально-политическое звучание и свое место в формулировании Общественного договора.
Тем не менее некоторые общие социальные черты, при большой степени условности, все же можно выделить. Это представляет собой определенную важность с той точки зрения, что, основываясь на них, можно будет сформулировать определенные ожидания, а соответственно – предполагаемые линии поведения.
Первым условием «чистоты поиска интересов» является то, что из страты «государственная власть» следует выделить две фигуры – Н.Назарбаева и действующего президента К.Токаева.
Эту необходимость диктует не только правовой статус президентской должности, характеризующей ее как высшее должностное лицо и единственный полноправный институт, представляющий полностью суверенитет страны. Государственное устройство и политическая традиция в стране сложилась так, что президент является источником «социального заказа на лояльность» граждан. В Казахстане остальные, даже высшие государственные руководители, никогда не являлись самостоятельными источниками заказа на лояльность, всегда являясь исполнителями политического заказа президента.
Если подходить с точки зрения реальных интересов, то с конца 90-х годов и в 2000-е в Казахстане складывался и в последнее время сформировался полностью один базовый тезис, звучащий как «государство – лучший бизнес». Данный тезис не является чисто экономической категорией. Это совокупность таких понятий как:
- создание привилегий и особого статуса перед законом, в решении простых житейских проблем;
- организация коррупции как дополнительного дохода к заработной плате,
- протекционизм, в том числе на основе кровнородственных связей;
- безопасность персональная, финансовая, обеспечение безопасности бизнеса, правовые иммунитеты;
- эффективный механизм рейдерства и перераспределения бизнеса в различных масштабах, от районного до международного;
- контроль над государственными трансфертами, тендерами и формирования доходов от их распределения;
- создание олигархий, монополий разного уровня, которые создают капиталы, способные повлиять на решение вышестоящих органов и персон;
- манипулирование и лоббирование в рамках местной правовой деятельности и на уровне общенационального законодательства;
- манипулирование и лоббирование политических интересов, исходящих из отношения к государству, как к источнику формирования дохода.
Эта линия интересов является ключевой и пронизывает всю вертикаль госуправления, начиная с принципов рекрутирования в госаппарат, завершая возможностью установить и укреплять олигополию в масштабах страны.
На способности реализовать указанные программы выстраивается и принцип восприятия социальных лифтов в казахстанском обществе. Главной задачей чиновник, поступающий на государственную службу, видит в том, чтобы пройти описанную вертикаль – от уровня «планктона» до должностного лица, способного принимать решения или влиять на их принятие.
Безусловно, этот интерес не является тотальным, однако очевидно то, что он является ключевым и субстантивным, а значит активно формирующим модус операнди представителей основной массы, представляющей эту страту. Существуют работники, не заинтересованные в обогащении или создании себе привилегий, но не они формируют основные поведенческие тренды. Скорее этот слой зависит от тех, кто придерживается главных «правил игры» и по этой причине достигает карьерного и финансового успеха.
Фактически КПД чиновника, интегрированного в такую вертикаль интересов, делится на три основные «корзины»:
- время, необходимое для исполнения обязанностей «по протоколу» или «по функционалу»;
- круг обязательств по исполнению заказа на лояльность, исходящего из центра;
- время, посвященное реализации личных интересов.
Содержание первой корзины находится в прямой зависимости от профессиональных качеств работника или от того, на что им делается ставка в продвижении по карьерной лестнице. Во многом оно зависит и от профиля деятельности.
Картина официальных назначений свидетельствует о том, что в последнее время в деятельности чиновника акцент в приоритетах смещен в пользу баланса между двумя последними корзинами. Чем выше рвение по второму пункту, тем больше «прав» отдается чиновнику для осуществления «третьей корзины».
Кристаллизируясь со временем, баланс между тремя корзинами сложился следующим образом: первый функционал все более смещается в сторону периферии, а балансирование между вторыми двумя привело к естественному результату, когда личные интересы прочно занимают первичное положение. Деятельность же по второй корзине сводится к «эффективной имитации» исполнения политических программ центра. Это не могло не привести к тотальному неисполнению государственных программ и стратегий. По этой причине оценка их эффективности и вообще исполненности не выносится на публичное обсуждение, начиная со «Стратегии 2030».
Работа на «политический центр» успешно помещена в «резервацию достаточных манипуляций», в котором количественные показатели прочно заменили показатели качества исполнения и смыслового наполнения, свели поддержание Общественного договора и заказа на лояльность к остаточному принципу.
Уже в начале 2000-х годов некоторые эксперты в закрытых исследованиях прогнозировали укрепление этих негативных трендов в системе государственного, а главное, политического управления.
В результате сложилась ситуация, когда центральная власть фактически не обладает реальными рычагами управления госаппаратом, поскольку ее социальный заказ не способен выйти из пределов выделенной им резервации. Наиболее рельефно этот процесс может быть проиллюстрирован на примере региональных властей, где территориальная удаленность от центра более очевидно подчеркивает черты «кампанейщины» в подходах к социальному заказу на лояльность.
Приоритетность двух «вторых корзин» привела к тому, что чрезвычайные ситуации по всей стране – от техногенных катастроф до всплеска вариативности преступлений – стали регулярным явлением. И это создает полное ощущение социального обвала в обществе.
Одним из главных последствий для «заказчика на лояльность» явилось то, что стремление к упрощению обязательств перед центром привело к намеренной примитивизации политики, искусства ее ведения.
Наиболее ярким примером является то, как была уничтожена мажоритарная система выборов в Парламент и, несмотря на значительные изменения в гражданском сознании за годы Независимости, был минимизирован и законсервирован список выборных должностей в политической системе страны. Об этом в кулуарах всегда говорили представители региональных властей, государственных органов, задействованных на выборах, в структуре ЦИК, что выборы по партийным спискам значительно разгрузили их функционал и политическую ответственность. По этой причине они всегда будут лоббировать сохранение текущего статус кво.
Стремление к примитивизации функционала по «второй корзине» также привело к тому, что ответственность за все политические процессы была экстраполирована исключительно на президента Назарбаева. При этом доля «третьей корзины» продолжала расти.
Процесс девальвации политической деятельности госвертикали не мог быть односторонним. Он стал генерировать потоки восходящей информации и оценочных категорий, которые не были основаны на интересах предоставления «наверх» объективной картины, а основывались на защите собственных интересов.
Основными выводами могут служить следующие:
- Магистральным вектором государственной и около государственной вертикалей управления будет стремление продолжить сложившуюся практику, потому что она основана на реальных, а не декларативных интересах. Эти интересы сосредоточены на «третьей корзине личного потребления». Данный вектор представляет собой более или менее единый массовый тренд представлений о функционировании государства и о своей роли в ней.
- Данная линия интересов самая сложная в стране, прежде всего потому, что она слабо персонифицирована, очень гибка в организации. Со времени ухода с политической сцены стабильных «групп влияния» ее самоорганизация как для узких бизнес-задач, так и для решения больших политических представляет собой временные и неустойчивые альянсы. Однако именно в их временности и скрыта эффективность, поскольку они группируются для конкретно очерченных целей, а по их достижении легко избавляются от исчерпавших себя обязательств.
- В то же время это самая организованная группа и её удельный вес в политике максимальный. С годами сложилась и максимальная зависимость от нее как института президента и елбасы, так и состояния их Общественного договора с сообществом граждан, состояния программы «поддержания и развития лояльности». В сущности, это и есть тотальная бюрократизация, основной источник реакции и консервативной политики в стране. Её неэффективность направлена во все стороны политического спектра в стране.
- В политическом плане этот тренд означает, что любые инициативы, разработанные теоретиками по заказу центра, будут неизбежно примитивизированы и не исполнены в должном качестве. Образцом является неуспешность таких стратегических программ, как «Рухани жангыру».
- В социальном плане госвертикаль станет постоянным источником техногенных и социальных катастроф, головотяпства, чрезвычайных ситуаций, обрушения локальных имиджей, которое напрямую бьёт по центральным политическим репутациям.
- В плане взаимодействия с обществом на первый план выйдет (это происходит сейчас) силовой блок, потому что это выражение высшей примитивизации политики. Более того, силовой блок является и будет продолжать являться генератором способов и идей манипулятивной силовой политики, что все больше будет ставить под сомнение вообще существование других политических механизмов, таких как идеологическое руководство, партии, средства массовой коммуникации.
- Формулирование запросов финансово-промышленных групп в рамках нового общественного договора
________________________________________________________________________
Очевидно то, что и эта группа акторов не является определенным социально-политическим монолитом. Более того, затруднена и их строгая типологизация, поскольку каждая финансово-промышленная группа представляет собой оригинальный сплав персональных качеств, отраслевой специфики, финансовых объемов, представленности во властных структурах, степени влияния на президента и елбасы, публичности или элитарности основных персон и т.д.
Определенную типологизацию финансово-промышленных групп можно разделить последующим параметрам:
- Отношение к интересам Н.Назарбаева как архитектора первоначального накопления капитала, в результате которого формировался и развивался их личный капитал;
- Отношение к К.Токаеву, как к новому заказчику на «новую лояльность»,
- Отношение к вопросу, кто будет следующим президентом Республики Казахстан;
- Вопрос близости к центрам принятия решений;
- У высшего эшелона, действующего на международном уровне – состояние внешней политики через призму взаимодействия с иностранными партнерами.
При этом необходимо принимать во внимание, что интересы финансово-промышленных групп, или в терминологии 2010-х «групп влияния», пронизывают и всю государственную вертикаль управления в стране, в особенности сеть управленцев из группы decision makers. В этом и заключается олигополическое государственное устройство современного Казахстана. Группы влияния являются не только ретрансляторами «идеологии лояльности» в широких кругах населения, но и её исказителями, а также переинтерпретаторами уже в своих интересах.
Абсолютно очевидно, что базовым интересом групп является безопасность и развитие своего бизнеса, сохранение и увеличение его доходности, а часто и расширение вариативности сфер, обеспечивающих доходы.
В этом отношении широкие массы граждан являются их естественными оппонентами, поскольку капиталы ФПГ создавались на основе поэтапного отстранения граждан от их доли в совокупном национальном богатстве, а иногда и напрямую за счет отъема или перераспределения результатов их собственной предпринимательской деятельности. Эти группы в совокупности являются конечными бенефициарами системно организованной коррупции, потому что сутью ее также является взимание дополнительной ренты с граждан.
По этой причине прямых интересов у ФПГ в том, чтобы общество принимало участие в заключении Общественного договора нет.
Именно в этом ракурсе формируется специфика финансово-промышленных групп как актора, базирующегося на более или мене единой системе интересов. Существуют косвенная заинтересованность в виде общей лояльности к политическому строю, который стоит на защите сложившихся механизмов перераспределения совокупного национального богатства. Но в этом вопросе ФПГ успешно делегировали практически всю политическую ответственность Н.Назарбаеву (в свое время), а теперь стоит вопрос, смогут ли они так же успешно перенести ее и на Токаева.
Как можно наблюдать из первых трех пунктов интересов, основным вопросом ОД для ФПГ является достижение полной определенности в том, кто является источником заказа на лояльность. Кто будет формировать новые или подтвержденные старые «правила игры» на рынках и в общественных отношениях.
Поэтому общий кризис управления в стране значительно усиливается благодаря тому, что для всей государственно-олигархической вертикали в обществе в непонятном состоянии находится «вторая корзина» деятельности. Эта «непонятность» лишь усиливается по мере ретрансляции вниз по служебной вертикали.
Периодическое усиление или ослабевание факторов «двоевластия» снова приводят к примитивизации политики и отдачи ее на откуп силовому блоку, в функционал которого не входит и не должна входить политическая составляющая. Но отсутствие способности организованных элит защищать интересы центра с помощью публичных политических инструментов неизбежно приводят к тому, что силовые методы становятся единственным инструментом политики. Это привносит мощнейший дисбаланс в систему управления, поскольку силовые органы призваны ликвидировать последствия, а не работать с базовыми общественными отношениями. Прямое нарушение его функционала атрофирует специальные политические органы в пользу тех, кто политикой не должен заниматься. Это является не косвенным, а прямым следствием примитивизации политики и возведения ее на уровень экстремальных противостояний.
В результате силовой принцип ведения политики становится самым активным инструментом в руках ФПГ также и по ведению конкуренции между собой – по переделу рынков, перераспределению аппаратной силы, по дискредитации политики других ФПГ перед центром и т.д.
В целом основной поведенческий паттерн лидеров ФПГ проявляется в том, что в ситуации, когда непонятно, кто в результате двоевластия будет главным политическим модератором в стране, они пытаются придерживаться позиции «равноудаленности и равноприближенности» к центрам принятия решений, публично демонстрируя лояльность и к елбасы, и к новому президенту. На деле такая «позиция наблюдателя» является абсолютной ширмой.
По своей истории происхождения можно было бы предположить, что действующая элита, сформированная в ФПГ, должна проявлять в ситуации «двоевластия» открыто консервативный тренд по следующим причинам:
- Происхождением капиталов они обязаны Н.Назарбаеву лично;
- Возврат к «старым порядкам по Назарбаеву» означал бы возврат к прежнему «межэлитному ОД», в котором они на условиях инициативной лояльности по-прежнему обладали бы абсолютным правом на сбор ренты с национальной экономики;
- В сложившемся «двоевластии» еще не появились созидательные элементы, а все разрушительные по-прежнему остались под контролем елбасы. И ясно, что в случае неблагоприятного расклада, он может применить этот потенциал против любой ФПГ в полной мере;
- Президент Токаев по своему социальному статусу не является лидером ФПГ, его позиция в политике всегда была вторична по отношению к основным политическим игрокам. Но это одновременно не является и каналом его зависимости от них. Такая взаимозависимость в полной мере сложилась в схеме «Назарбаев – элиты – Назарбаев», но не в ситуации с новым президентом. Поэтому Токаева нельзя назвать в полной мере выразителем интересов олигополии, и это одна из основных характеристик этой политической фигуры.
Немаловажным является и такой сложный психологический тренд, когда фактически полная зависимость происхождения капиталов ФПГ от Н.Назарбаева, не является стопроцентным фактором лояльности к нему. Существует также и тренд к тому, когда зависимый начинает открыто тяготиться этой зависимостью, и она приобретает обратный смысл.
Третья группа интересов, кто будет следующим президентом Казахстана, формирует один из основных поведенческих паттернов в линии поведения основных ФПГ в ближайшей перспективе. Причем речь не идет только о смене главы государства в конституционный срок. Существует несколько способов появления нового президента, в том числе и реставрация Н.Назарбаева.
Однако основная политическая притягательность вопроса о следующем президенте заключается в том, что в политическом пространстве возник прецедент того, чего ранее не могло быть – появление нового президента, не Назарбаева. Если фигура елбасы безапелляционно воспринималась в элите как политически внеконкурентная, то фигура Токаева таковой не является. Более того, она рождает естественные вопросы у лидеров ФПГ, «почему следующим президентом стал не я»? Потенциал президентского места в нынешней политической системе страны более чем достаточен для способности диктовать новые «правила игры» и новые условия формирования или, что самое важное, переформатирования элиты.
Многие лидеры ФПГ увидели вполне высокую вероятность того, что в 2019 году случае иного исхода, на месте Токаева могли быть они или их ставленник. А значит в предстоящие президентские выборы им необходимо включаться в полной мере в процесс смены президента, чтобы эту высокую вероятность реализовать.
Эти интересы будут реализовываться в крайне латентной форме, потому что они направлены против интересов двух основных политических акторов – и Назарбаева, и Токаева. По этой причине весьма низка вероятность достижения консенсуса между ФПГ, потому что они перманентно находились в режиме конкуренции между собой. Эта конкурентная сущность, а именно прямая противоположность интересов, все более будет проявляться в публичной сфере.
В этом ракурсе очевидно, что предстоящие выборы в Мажилис пройдут полностью в контексте «смотра политических потенциалов» основных акторов. А также тестирования всех элементов, в целом представляющих собой политическую систему Казахстана.
Именно в этот период произойдет кристаллизация основных вопросов политики, которая к президентским выборам придет с кардинально новым раскладом в элитах и в обществе.
Однако основной проблемой политического сектора ФПГ является то, что он испытывает очевидные проблемы с публичными политиками. Исключение составляет Дарига Назарбаева, но на данный момент ее фигура воспринимается как вторичная по отношению к политическому курсу елбасы.
К примеру, согласно регулярному исследованию ЦСПИ «Стратегия» в 1-м квартале 2019 года в первой тридцатке рейтинга государственных деятелей только две фигуры являются более или менее публичными, это упомянутая Д.Назарбаева и К.Токаев[1]. Остальные являются представителями «теневой политики», либо эпизодическими отраслевыми спикерами. А в 2018-м году рейтинг возглавлял руководитель спецслужбы К.Масимов[2]. При этом рейтинг Б.Байбека, которому согласно занимаемой должности в партии «Нур Отан» положено по статусу быть публичной фигурой, находится между 14 и 15 местами[3].
Это является прямым следствием того, что с одной стороны, президент Н.Назарбаев успешно ликвидировал более или менее конкурентные фигуры из элиты, а элиты в свою очередь ответили тем, что взвалили на него всю политическую ответственность за ситуацию в стране.
Политическая деятельность ФПГ, несмотря на полную незаинтересованность в участии гражданского общества в Общественном договоре, тем не менее обладают высокой степенью понимания того, что общественное недовольство является прекрасным инструментом, чтобы осуществлять атакующую политику по отношению к своим противникам.
При этом потенциал ФПГ достаточно высок, потому что они давно сложились в качестве буферной прослойки между народом и главами государства. Как видно, даже такие нестандартные методы как создание НСОД, не способны ликвидировать этот отрыв президента от реальной политики воздействия на массы.
В то же время Н.Назарбаев, в бытность президентом, целенаправленно «высушил» публичную политику в финансовом плане. Это привело к тому, что реальные механизмы финансового воздействия на массы он добровольно отдал лидерам ФПГ, будучи сам ограничен в прямом участии в организации политических технологий. Поэтому сегодня финансовая «ненасыщенность» политического рынка начинает играть роль, противоположную целям Н.Назарбаева или Токаева.
В качестве выводов необходимо резюмировать:
- Основным поведенческим паттерном лидеров ФПГ станет политика «равноудаленности», а скорее «равноприближенности» к двум центрам принятия решений – елбасы и президенту Токаеву. Целью этой политики является – вовремя принять нужную сторону, чтобы завершить процесс формирования унитарного источника «заказа на лояльность»;
- Лидеры ФПГ будут проводить латентные сценарии по продвижению собственной кандидатуры на президентство. Предварительной репетицией этой политической кампании станут выборы в Мажилис 2020-го года. До этого пройдут тщательно организованные кампании по взаимному ослаблению ФПГ;
- Гражданское общество не рассматривается ФПГ в качестве желательного участника Общественного договора. Но в то же время манипуляции общественным мнением, активное давление на оппонентов через социальные сети, а также активное вмешательство в беспрецедентный рост политической активности общества предоставляют им значительные силы в том, чтобы сделать политику Н.Назарбаева и Токаева вторичной по отношению к своей.
- Ключевым вопросом в этой ситуации является то, что удары, наносимые ФПГ по друг другу, напрямую экстраполируются в целом на политическую систему Н.Назарбаева и Токаева тоже, не как оппонента в «двоевластии», а как партнера по единому сценарию транзита.
- Формулирование запросов общества в рамках нового общественного договора
Главной особенностью общественной мысли текущего периода является то, что широкие массы пришли к пониманию характера сложившихся социально-экономических отношений в Казахстане на уровне простых формулировок. Эти формулировки транслируются практически на всех общественных площадках – от семейно-бытовых до открытого выражения мнений в социальных сетях.
Исключение составляют целевые социологические опросы и официальные каналы поступления информации «снизу вверх», но об этом смотрите ниже.
Итоговая картина складывается в формулу общего недовольства текущим состоянием сложившихся общественных отношений в стране.
- Рост недовольства экономическим положением.
Как известно, одним из основных постулатов «ОД Назарбаева» являлся принцип «вначале экономика, а потом политика». Такая постановка вопроса в 90-х годах основывалась на тезисе, что источником недовольства являются исключительно те группы людей, которые неудовлетворены своим материальным положением.
Проведение структурных реформ подразумевало, что сам процесс реформ является болезненным, в период их осуществления возникновение стрессовых ситуаций неизбежно. Однако по достижении успешных результатов большинство факторов социального недовольства либо снизят свою температуру, либо исчезнут вообще. Функции идеологического инструмента, призванного убеждать, что процесс реформ является конечным процессом, выполняли такие программы стратегического планирования, как «Казахстан 2030».
Однако по истечении 30 лет существования «ОД Назарбаева» итогом экономической политики в Казахстане стало значительное ухудшение экономического положения населения.
Исследования ОФ ЦСПИ «Стратегия» в этой области формулируют выводы из исследования поведенческого климата среди населения следующим образом:
«Если проанализировать оценки социального оптимизма за последние 15 лет, то можно заметить, что за этот период было зафиксировано два значительных спада социальных настроений – 2008-2009 годы и 2016-2018. При этом кризис 2008-2009 годов был непродолжительным, и настроения населения сравнительно быстро восстановились до прежнего уровня. А сейчас мы находимся в трехлетнем периоде значительного снижения социального оптимизма, и, возможно, что негативный тренд начинает перерастать в тенденцию».[4]
«…это не результаты одного года, просто сейчас произошло накопление всего объема настроений, трендов. На сегодняшние оценки самочувствия и состояния социально-экономической ситуации влияет набор самых разных специфических причин, которые имело место в течение нескольких последних лет.
Как мы отметили в исследовании, это тенденция последних трех лет, начиная с 2015 года. Последние годы привели к высокому уровню пессимистичных настроений, которые, как мы думаем, в 2019 году будут еще хуже».
Превращение тренда в устойчивую тенденцию означает одно – то, что он представляет собой не случайный, а закономерный итог. Тем более, что он представляет собой затяжной процесс, фактически занявший целое десятилетие.
«Опрос зафиксировал и самый низкий, начиная с 2010 года, показатель удовлетворенности населения своей жизнью – 70%. Тренд на понижение начался в 2015 году (с 81%), и по сравнению с прошлым 2017 годом, показатель удовлетворенности тоже упал»[5].
Таким образом, ухудшение экономического положения, стало одним из основных триггеров роста политизированности населения Казахстана.
- Рост понимания того, что плохая экономическая ситуация является прямым продолжением «плохой политики».
ОД Назарбаева, основанный на вторичности политики перед экономикой, в своей основе подразумевал, что в период реформ возможны издержки в области политики, ограничения некоторых фундаментальных гражданских прав в пользу стабильного развития. Эти ограничения также носили характер временных вынужденных мер.
Риторика перманентных реформ исчерпалась в 2000-м годам, по причине того, что процессы реструктуризации стали приобретать черты самоцели, а не эффективных мер кардинального, но все-таки разового характера. Поэтому в Посланиях президента народу Казахстана начала 2000-х уже говорится о том, что в основном структурные реформы в стране завершены, выстроены основы общественных отношений. Далее речь идет об усовершенствовании и повышении эффективности существующих социально-политических институтов. [6]
С 1998 года в стране запускается дискуссия и серия экспериментов по расширению списка выборных должностей[7]. Однако в 2018 году в этом вопросе была поставлена точка, и эксперименты с прямыми выборами были свёрнуты[8].
Как известно в 2001-м году возник один из самых крупных системных кризисов политической элиты Казахстана, что привело к возникновению оппозиции нового типа – из числа выходцев из элиты, сформированной самим президентом Н.Назарбаевым. Возникло движение «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), такие партии как «Ак Жол». В 2003-м году была создана партия «Асар», которая при всей прямой зависимости от президента Н.Назарбаева, только усилила межэлитный конфликт, продемонстрировав высокий спрос альтернативных элит в центре и регионах на политическую активность.
В контексте конфликта элит прошли выборы 2004 года (Мажилис), 2005 года (Президента РК) и даже 2007 года.
Выборы 2007-го года, в результате которых в стране образовался однопартийный парламент, свидетельствует о жестком сворачивании проектов демократизации в стране даже такой высокой ценой, как внешнеполитический демократический имидж страны.
Однако сегодня социальный конфликт вокруг ОД охватил самые широкие круги населения. В основе его лежит понимание того, что экономические неудачи страны напрямую зависят от политического строя, от политических реалий.
- Прежде всего, эмпирическим путем граждане увидели чрезвычайно низкий процент своего участия в принятии жизненно важных и политических решений в стране.
- Затем пришло понимание, что низкое участие обусловлено нарушением всех принципов делегирования конституционно закрепленного за народом абсолютного права быть источником власти. Что парламент и все институты власти никак не связаны обязательствами перед народом, но право делегирования им полномочий не обеспечено транспарентной выборной системой.
- Следующим этапом стало опять же эмпирическое понимание того, что это недовольство политическим статусом граждан не имеет никаких механизмов оспаривания – ни суды, ни общественные организации от власти не действуют в интересах граждан. Не действуют и механизмы отзыва мандата выборных должностей.
- Следующим шагом стало понимание того, что и правовая база в стране не является стабильной, в частности Конституция страны. Что она действует избирательно, нарушая базовый республиканский принцип равенства граждан перед законом. При этом общий свод законов в стране представляет собой клубок противоречий, где буква ценностей, декларируемых в Основном законе, противоречит букве законов, подзаконных актов и правоприменительной практике.
Таким образом в виде простых формул у граждан возникло понимание того, что Общественного договора, как свода общих правил, равных для всех его участников, в стране практически не существует. И широкие массы де-факто и часто де-юре отстранены от какого-либо участия в управлении страной.
Очевидно, что важную роль в этих процессах сыграли социальные сети, независимые источники информации, экспертная среда. Однако не менее важную роль сыграли прямые действия, выступления непосредственно представителей власти.
Особую роль необходимо отвести межэлитным конфликтам, которые в несколько порядков увеличили количество компромата на оппонентов, выплескиваемого в социальные сети и мессенджеры. Фактически это привело к обрушению всего морально-этического облика казахстанского чиновничества. Сюда же можно отнести и поток пропаганды и компрометирующих разоблачений, привносимый из-за рубежа.
Важнейшие контуры формирования социально-политических запросов широкого круга граждан Казахстана сформировались в результате проведения в высших кругах кампании по так называемому транзиту власти. Ключевыми этапами этого процесса до сегодняшнего дня являются три основных явления:
- Назначение К.Токаева и.о. президента.
- Избрание К.Токаева на выборах. «прецедент Косанова».
- Возникновение темы «двоевластия».
Наиболее катастрофическим для имиджа власти, и в общем всей стратегической линии Н.Назрбаева на «стабильно-последовательный» принцип передачи власти, стал «прецедент Косанова». Некоторые эксперты ошибочно полагают, что результатом этой кампании стало лишь обрушение имиджа Косанова, как политической персоны. Однако на деле этот прецедент одноактно обнажил практически все недостатки существующего политического управления в стране. Это было особенно заметно по контенту социальных сетей, когда все, даже крайне радикальные спикеры и эксперты оппозиции, значительно отставали в трактовках и определениях от общего настроения рядовых граждан.
Одним из самых тяжелых последствий для власти является то, что «прецедент Косанова» дезавуировал большой пласт тех персон из экспертно-политической среды, которые представляли собой эффективные каналы коммуникаций между властью и широкими аудиториями. Также он обрушил персоны и институты оппозиции.
В свою очередь это привело к возникновению вакуума доверия в обществе ко всем каналам трансляции, ретрансляции политических интересов, их трактовкам и интерпретациям, а также ко всем инструментам по формированию консенсуса в конфликтных ситуациях.
- Рост спроса на политическую самоорганизацию.
Возникновение вакуума доверия привело к тому, что процесс самоорганизации в обществе осуществляется весьма противоречивым способом.
С одной стороны, существует спрос на формирование политических организаций, которые могли бы восстановить систему делегирования и участия граждан в принятии ключевых политических решений. То есть на политические партии, как наиболее системные и наименее охлократические инструменты политики.
С другой стороны, война компроматов и чрезвычайная подозрительность мешает преодолеть этот вакуум доверия. В результате лидеры уже заявленных партийных инициатив начинают с очень низких показателей доверия к ним.
Важно, что вакуум доверия поддерживается чрезмерной активностью силовых органов и спецслужб, занимающихся тем, что на их взгляд, представляет собой эффективное политическое регулирование. А на самом деле направлено на уничтожение любых более или менее внятных социальных буферов и общих площадок.
Итогом этого вакуума доверия является крайне опасная ситуация для властей, потому что между ними и охлократической гиперактивностью населения нет ни одного звена, способного на формулирование и достижение компромиссов, взаимоприемлемых решений и общих правил поведения.
Практика создания институтов «сверху», которые могли бы компенсировать нарушение принципов делегирования путем расширения участия граждан, также не достигла успеха. Речь идет о создании системы Общественных советов и стимулирования НПО, ориентированных на активное сотрудничество с государственными органами в сфере достижения компромиссов и даже по предложению форматов реформирования государственных структур.
Об их неуспехе свидетельствует ряд независимых исследований, таких как исследование Ольги Шиян, Transparency Kazakhstan, «Возможности гражданского контроля в Казахстане: опыт этнологического исследования»[9], где сказано:
«Авторы приходят к выводу, что действующие в Казахстане ОС [Общественные советы] не стали площадкой для выражения мнения населения и гражданского контроля. Таким образом, первоначальный анализ количественного и качественного состава групп по проведению общественного контроля показал низкую степень реального вовлечения членов СМИ и ОС в принятие решений госорганов».
а также отечественных специалистов[10].
Таким образом в стране сложился значительный спрос граждан на активную политическую самоорганизацию «снизу», на основе максимально повышенных требований, выдвигаемых к самовыдвижению граждан в качестве лидеров, поскольку речь идет о возможности делегировать им право вступать в Общественный договор с властью. Очевидно, что ни один из политических институтов, организованных властью, не может соответствовать этим требованиям в силу своего происхождения.
- Рост спроса на кардинальную смену характера общественных отношений.
Контент социальных сетей и политическая позиция акторов, «формулирующих системные взгляды», несомненно, демонстрируют то, что основным требованием граждан является кардинальная смена характера общественных отношений, заключение нового Общественного договора, вплоть до перезагрузки государства.
Исследования убедительно демонстрируют то, что на уровне широких масс этот фактор выражен в опасном противопоставлении себя («гражданина, простого человека») чиновникам (собирательное понимание тех, кто обладает государственными или иными властными полномочиями).
«Так, 50,4% опрошенных полагают, что «слишком много прав» и 37,2% «достаточно прав» прежде всего у чиновников (работников(-ц) министерств, областных, городских и сельских акиматов)» [11].
Античиновнический тренд однозначно можно трактовать как недовольство модусом вивенди тех, кому «народ, как источник суверенитета» делегировал права управлять страной. Следовательно речь идет именно о качестве и внутреннем содержании существующей модели Общественного договора.
Наиболее катастрофическим фактором для власти является следующий показатель:
«По сравнению с этническими русскими (80,8%) 90,3% этнических казахов в большей степени склонны утверждать, что чиновники имеют много прав»[12].
Катастрофичность этого показателя состоит в том, что самосознание казахов более уверенно формулирует себя как автохтонного носителя суверенитета. И именно в казахском преломлении государственная вертикаль не обладает достаточной степенью легитимности. Это говорит о наличии фундаментального противоречия в представлениях о естественном праве человека на справедливость и той социально-правовой системой, которая существует сегодня в стране.
Тезис о том, что ОД в Казахстане не содержит в себе такого главного элемента, как социальное государство, доказывает то, что высокий уровень запроса на реальные реформы распространен среди социально незащищенных слоев населения.
«Результаты исследования также говорят о том, что осуществляемые реформы в Казахстане не поддерживают на должном уровне социально незащищенные слои населения. Среди тех чьи права недостаточно соблюдаются, респонденты выделяют в первую очередь людей с ограниченными возможностями (36,8%), бедных людей (34,3%), пенсионеров(-ок) (24,9%), молодежь (20,7%)».[13]
Иными словами, сегодня можно уверенно констатировать то, что в обществе фактически обрушилась социальная база массовой поддержки существующего политического строя. Это в свою очередь дает представления о том, насколько невозможен социальный успех программ власти, а также о состоянии её ядерного и потенциального электоратов накануне основных электоральных кампаний.
При этом исследователи отмечают определенные дихотомические противоречия во взглядах казахстанцев. Об этом говорит ряд показателей, прежде всего уровень доверия к таким институтам как президент и правительство. В большинстве исследований он достаточно высокий, что часто ошибочно трактуется в качестве доверия политическому курсу руководства страны, его содержанию.
В то же время данная дихотомия объясняется скорее не констатаций, а высокими ожиданиями, связанными с новым президентом. В данном случае «правительство» следует понимать не как конкретный кабинет А.Мамина, а государственный аппарат в целом. Исследования демонстрируют то, что эти ожидания основаны на традиционном патерналистическом отношении граждан к власти.
Главным в этих ожиданиях является понимание того, что кардинальная реформа «сверху», представляет собой наиболее безопасный вариант кардинальных реформ. В этом случае достаточно достичь консенсуса между властью и населением, чтобы легитимизировать степень и масштаб изменений. В этом плане президентству К.Токаева предоставлен достаточно высокий уровень ожиданий, который открытые источники оценивают в 74,9 %. [14]
Следует отметить еще одну важную особенность состояния политических ожиданий широких слоев гражданского общества – это высокая волатильность оценочных категорий. Она легко прослеживается в основных трендах изменений общественного мнения в социальных сетях.
Эта волатильность выражена в том, что:
- в похожих социальных прецедентах реакция может быть либо максимально бурной, либо поразительно равнодушной. При этом искусственная накрутка комментариев и перепостов может не сыграть ключевой роли. Некоторые прецеденты превращаются в интернет-мем, массово ретранслируются и способны уничтожить репутацию даже крупных государственных руководителей. А некоторые, подобные, могут пройти в режиме минимальной социальной температуры;
- резко колеблется степень доверия к явлениям, политическим инициативам или институтам. Примером может служить постоянная перемена тональности в отношении общественных советов или НСОД;
- высокий уровень «метания» общественного фокуса от события к событию. Несмотря на то, что это основной признак массовой культуры и социальных сетей, такая волатильность по отношению к главным ценностным факторам является элементом неуправляемости и непредсказуемости;
- «взрывной» характер реагирования на темы, которые затрагивают непосредственные жизненные интересы граждан – такие как тема КТЖ, подготовке к школе, изнасилований, попытки введения платежей Каспиголд, введения Единого совокупного платежа, эксцессов вокруг Правил дорожного движения и т.д.
В сочетании с высокими ожиданиями населения на изменение ОД, такая волатильность говорит о том, что организация гражданской политической инициативы обладает чрезвычайно высокой степенью актуальности. Прежде всего потому, что при отсутствии структурирования общественного мнения, власти будут иметь дело с внесистемными выражениями политических чаяний.
На первый взгляд такое утверждение может быть рассмотрено и с той стороны, что организованным институтам, которыми является госаппарат, легче справляться с неорганизованным субстантом. В настоящих условиях это весьма сомнительный довод, учитывая высокую подверженность казахстанского социума возникновению чрезвычайных ситуаций и «черных лебедей», которые по силе воздействия могут иметь весьма сложные последствия и обладать мультипликативным эффектом.
- Создание системы взаимозависимостей и взаимных обязательств между тремя основными акторами нового общественного договора
Исходя из вышеописанных запросов и ожиданий при создании системы взаимозависимостей и взаимных обязательств для разработки и принятия ключевых контуров Общественного договора, необходимо учесть следующие основополагающие тезисы:
- Необходимо осознать и вывести на уровень концептуального понимания, что консервативные методы косметических мер не только неэффективны, но и каждый раз разрушают возможности возникновения общественного диалога. Причина проста – общественность, благодаря современным информационным методам оперативного обмена информацией и мнениями, моментально кристаллизует оценочный образ того или иного политтехнологического хода.
Иными словами, нужно сменить тональность отношений с обществом с политических технологий и политического PR на реальную политику. При этом речь идет о сломе не только привычных алгоритмов действий, но и вообще о введении принципиально нового взгляда на KPI политических институтов.
- Наладить эффективный сбор обратной связи. Сегодняшнее состояние социологических опросов и мониторинга общественного мнения является скорее тормозом развития общественных отношений, нежели инструментом взаимного обогащения информацией.
Даже в азиатских деспотиях Средневековья наличие обратной связи с обществом возводилось в один из основных принципов правления монарха. «Государю необходимо ведать все о народе и о войске, вдали и вблизи от себя, узнавать о малом и великом, обо всем, что происходит. А если он не будет так поступать, произойдет вред; все будет отнесено на счет небрежения и насилия»[15]. Для этого в государствах мусульманского Востока создавались должности сахиб-хабара или сахиб-барида.
Социологи отмечают, что внимание к исследованию общественного мнения уменьшилось даже чисто в количественном отношении. [16] Это при том, что имеются существенные претензии к контенту социологических исследований. Очевидно, что в области социологии преобладают технологии психопрограммирования, причем это касается не только публикации искаженных результатов, а также и того, что опросные анкеты также составлены с учетом психопрограммирования на предсказуемые или заказные позитивные результаты.
Так же на результатах социологических опросов сказывается интерес заказчика. Буквально – в исследованиях акимата или того или иного ведомства невозможно найти отрицательного показателя их деятельности. В совокупности этот исследовательский пласт представляет собой гигантский слой дезинформации, на основе выводов из которых, к сожалению, принимаются решения о дальнейших действиях.
В прямом противоречии с интересами высшего руководства в стране является практика ограничения деятельности организаций, занимающимися замерами общественных настроений[17]. В этом примере наглядно демонстрируется то, как интересы ФПГ и бюрократии противоречат интересам высшего руководства.
По этой причине политические институты власти сегодня находятся в хроническом отставании по отношению к проактивному процессу формирования политической повестки дня.
На сегодня прежде всего необходимо не просто организовать ряд новых социологических исследований, но и превратить социологический метод в один из приоритетных в общенациональном масштабе. Для этого все ветви власти должны быть сориентированы не только на то, чтобы не чинить препятствия институтам изучения общественного мнения, необходимо вменить им в обязательство всестороннюю поддержку их деятельности.
- Сформировать реальную площадку для диалога.
Совокупный анализ общественного мнения позволит определить контуры гипотетического института, которому можно было бы делегировать функции обсуждения тех или иных аспектов Общественного договора. Изобретение искусственных организаций наподобие НСОД всегда приводит к тому, что обсуждение их полномочий и легитимности по удельному весу будет перевешивать исходящие потоки об их реальной деятельности.
Такой площадкой для диалога могут стать государственные СМИ, причем необязательно весь их арсенал. Как известно в изменении самосознания советского народа в духе Перестройки сыграли ключевую роль всего несколько даже не телеканалов, а телепрограмм, таких как «Взгляд» и «До и после полуночи», которые сыграли роль открытой дискуссионной площадки, пользовавшейся популярностью и высоким уровнем доверия населения. Основную роль в публичной дискуссии играла газета «Вечерняя Москва», а в формировании нового экономического сознания – еженедельник «Коммерсант». Этого небольшого информационного пула было достаточно, чтобы реализовать ожидания населения на определение контуров реформ.
- Реформировать ЦИК. В своем выступлении на интернет-площадке DIGISTAN Сергей Гуриев высказал мнение, что в условиях авторитарных режимов никакие опросы и замеры общественных настроений не создают реальной картины тех тенденций, в направлении которых движется общественная мысль. [18] Это связано с тем, что основными каналами движения информации и формулирования интересов являются институты представительной демократии. Эти институты при авторитарных режимах носят декоративный характер, и по этой причине высшее руководство страны всегда оказывается в информационном проигрыше даже по отношению к тем, что погружен в обычное информационное пространство.
По этой причине никаких диалогов по контурам Общественного договора не может быть без демонстрации открытого стремления власти к реставрации выборной демократии путем коренного реформирования вертикали ЦИК и укомплектования его не на основе личного доверия власти, а доверия широких кругов населения.
Для того, чтобы найти формулу реформирования ЦИК, необходимо проведение отдельных самостоятельных исследований.
- Провести мониторинг эффективности идеологической вертикали в целом, государственных СМИ, применяя к ним новый прагматический подход в формулировании KPI. Сегодня затраты, осуществляемые из государственного бюджета на идеологические и информационные институты, очевидно не соответствуют их эффективности в сфере воздействия на общественное сознание. То же самое должно касаться и партийно-идеологических институтов, созданных в свое время властью, включая «Нур Отан». Главной особенностью которых является абсолютная неспособность конкурировать в борьбе за умы граждан, поскольку они всегда паразитировали на возможностях административного ресурса.
Актуальность этого вопроса озвучил сам елбасы Н. Назарбаев, признав публично, что «…за последние несколько месяцев члены фракции Nur Otan не выразили своей позиции практически ни по одному резонансному случаю».[19]
- Ликвидировать полностью репрессивную тональность во взаимоотношениях с обществом. Очевидно, что, не изменив модус операнди силовых органов, не может быть и речи о создании общей диалоговой площадки с обществом. Очевидно, что репрессивный характер деятельности силового блока не просто не в состоянии обеспечить эффективной коммуникации с населением, но более того – является источником происхождения прецедентов, которые могут сыграть роль casus resistendi – послужить причиной стихийных народных бунтов.
Общей содержательностью описанных маршрутов является очевидная заявка власти на демонстрацию good will во взаимоотношениях с обществом. В ином случае внутренний контент общения по линии «власть – общество» сведется к перманентному противостоянию, температура которого будет постоянно повышаться. Как показывает уже сложившаяся практика, общественность быстро и чутко реагирует на проявления актов good will, как это произошло с помилованием некоторых политических заключенных.
- Сформировать представления о том, кто реально источник лояльности. Это очевидное важнейшее условие, поскольку для заключения Общественного договора необходима четкое определение субъектов: Какой президент? Какой парламент? Кто от имени общества? Кто от имени властей предержащих?
Размытые контуры субъектности в политике – одно из самых главных современных препятствий на пути не только заключения, но и поиска контуров Общественного договора.
Таким образом, движение по указанным маршрутам создают лишь предварительные и необходимые предпосылки для того, чтобы находить и формулировать взаимные обязательства между властью и обществом; определяет основные поля политической деятельности, в которых эти предпосылки могут быть созданы. Говорить сегодня о том, что все субъекты готовы для разработки и заключения стабильного и долгосрочного Общественного договора преждевременно.
- Механизмы трансляции установок нового общественного договора.
Содержание предыдущих глав недвусмысленно говорит о том, что без определения контуров нового ОД, его «физического места» существования в политической системе Казахстана, о механизмах его трансляции говорить преждевременно.
Заключение ОД, хотя и основано на философии «контрактуализма», не должно представляться в виде бизнес-договора, где описан объем благами и пропорции вознаграждения. Это прежде всего акт даже не политтехнологического уровня, а из области realpolitik.
По этой причине прежде всего необходимо преодолеть вышеописанную «размытость субъектов». Она существует у всех основных акторов политического пространства РК и выражается в наличии следующих явлений:
- Двоевластие, как размытость понятия «основной источник заказа на лояльность» и главная персона заключения Общественного договора, которой народ недвусмысленно делегирует полное право быть должностным лицом и представлять суверенитет страны. Очевидно, что одно простое выступление елбасы на тему того, что президент К.Токаев является единоличным руководителем государства не сыграла системообразующей роли. Требуется дополнительное исследование причин, почему это произошло.
- Размытость понятия «правящая партия» или «партия власти», которое заключается в том, что действующий президент даже не присутствует на основных мероприятиях партии «Нур Отан», что создает непонимание, насколько эта партия является президентской или ею не является. По общему представлению она является партией елбасы, но тогда между нею и президентским институтом существует значительная неопределенность. Отсюда и неопределенность ее роли в возможном участии в выработке и принятии ОД – в качестве кого?
- Отсутствие лидеров и публичных фигур, представляющих интересы среднего звена управления. Это по определению безликая сущность, поэтому вряд ли она сможет приобрести субъектность. Скорее всего будет являться объектом воздействия.
- Размытость и непубличность понятия «лидеры ФПГ» или «лидер, представляющий интересы всех ФПГ». Вся политика этого актора является латентной, а латентность решительно мешает субъективизации этой политической силы. В свое время существовали планы о создании партии консервативного толка, способной публично защищать интересы ФПГ на системной основе, но эта идея не нашла поддержки, поэтому сегодня эта прослойка оказалась без публичного представительства.
- Размытость понятия «народ», «общество». Неопределенность представлений о том, какие персоны, или какой альянс политических организаций будет представлять в ОД такое обширное понятие как «народ». Система политических партий в стране не сложилась и находится в зачаточном состоянии. Попытки «назначить» публичных народных лидеров потерпели неудачу.
В случае преодоления этой ситуации «размытой субъектности», маршруты трансляции представляют собой классические каналы коммуникаций.
Выше говорилось, что при наличии четко сформулированного политического заказа одним из таких каналов могут стать несколько дискуссионных форматов на общенациональных СМИ.
В русле пункта (a) необходимо провести дополнительные исследования по:
- Разработке новой стратегии позиционирования Н.Назарбаева, как экс-президента, но лидера нации. Это необходимо прежде всего потому, что Н.Назарбаев являлся абсолютно самостоятельным спикером политической платформы власти, так же он и воспринимается сегодня.
- Разработке стратегии позиционирования К.Токаева для преодоления понятия «двоевластия», с целью формирования из него «источника заказа на лояльность» от лица государственной власти.
В русле маршрута (е) следует:
- Изменить тональность в отношении формирующихся партийных инициатив «снизу» с целью содействия формированию народного субъекта заключения ОД, пользующегося доверием граждан, готовых делегировать им вотум доверия. Причем чем разнообразнее палитра субъектов, тем выше конкурентоспособность и качество идей.
- Это в свою очередь погрузит «Нур Отан» в конкурентную среду, что позитивно скажется на ее опыте и реальной политической конкурентоспособности.
- Провести мониторинг всех затрат на поддержание проправительственных СМИ и НПО, поскольку их эффективность оказалась минимальной в конкурентной борьбе за умы граждан.
Рост популярности и влиятельности социальных сетей, а также то, что интернет все более становится источником информации, пользующимся высокой степенью доверия[20], также следует использовать в качестве создания дискуссионных и открытых форматов.
Сложность заключается в том, что чаще всего неэффективность СМИ замаскирована высокими данными доверия к данному каналу информации. Например, по- прежнему высоки рейтинги доверия телевидению и печатной прессе[21].
Однако искаженность и неправильная трактовка проявляется в том, что чаще всего речь идет о высокой степени доверия исходящей официальной информации. К примеру, нет оснований не доверять новостям «Хабара» в том, что то или иное лицо назначено главой ведомства, поскольку это официальный канал. Проигрыш официальных СМИ и других идеологических инструментов происходит в трактовочной части, в сфере интерпретаций и разъяснений содержания и последствий событий. Трактовки официальных СМИ практически повсеместно проигрывают в формировании картины событий неофициальным или оппозиционным аналитическим программам.
Наиболее сложной задачей представляется достижение публичной субъективизации лидеров ФПГ, пункт (d). Обычно модератором консенсуса интересов в этой среде являлся лично Н.Назарбаев. Возможно возникает необходимость создания программы консолидации ФПГ или наоборот, рассегментирования их по принципу «от каждой финансово-промышленной группы по публичному политическому институту (партии или движению)», но только так, чтобы то, чьи интересы эта организация представляет, стало бы публичной, а не латентной информацией. Такие проекты не раз возникали в политической сфере страны, но по разным причинам не находили поддержки. А сегодня эта латентная субъектность превратилась для правящего класса в реальную политическую проблему.
___
В целом готовность казахстанского общества к заключению и формулированию постулатов нового Общественного договора можно сформулировать следующим образом – неготовность и размытость контуров всех политических акторов на фоне высокого спроса на кардинальные изменения общественных отношений.
Этот фактор усиливается еще и тем, что скорость изменений в политической ситуации и в общественном сознании значительно опережает темпы действия тех акторов, которые, казалось бы, организованы лучше всех – госвертикаль и ФПГ.
Очевидно и то, что к предстоящему электоральному циклу 2020-го года обществу будет предложена сырая стратегия, основанная на искажаемых год от года данных о положении дел в стране. К концу 2020-го года на основе этого неизбежно сформируется фундаментальный общеполитический кризис.
[1] «Рейтинг управленческой элиты РК за первый квартал 2019 года», ОФ ЦСПИ «Стратегия», https://www.ofstrategy.kz/ru/research/project-portrait/item/645-rejting-upravlencheskoj-elity-rk-za-1-kvartal-2019-goda
[2] «Рейтинг управленческой элиты Казахстана уверенно возглавил Карим Масимов», по материалам исследования ОФ ЦСПИ «Стратегия», 2018, https://informburo.kz/novosti/reyting-upravlencheskoy-elity-kazahstana-uverenno-vozglavil-karim-masimov.html
[3] Там же.
[4] «2018, Неутешительные итоги», по материалам ОФ ЦСПИ «Стратегия», https://rezonans.kz/guest-rezonans-kz/8881-2018-neuteshitelnye-itogi, 2018.
[5] Там же.
[6] См. Послания президента РК с 2001 – 2004 гг., https://www.mks.gov.kz/rus/deyatelnost/poslaniya/
[7] «История выборов акимов в Казахстане», https://www.zakon.kz/4561885-istorija-vyborov-akimov-v-kazakhstane.html, 2013.
[8] “Прямых выборов акимов в Казахстане пока не будет», https://forbes.kz//process/pryamyih_vyiborov_akimov_v_kazahstane_poka_ne_budet/ , 2018.
[9] Ol’ga Shiyan, Possibilities of citizen control in Kazakhstan: experience of ethnological research, Вестник российской нации, 2019, № 5, стр. 59.
[10] Нурмаков А. Игра в имитацию по-казахстански. URL: https://vlast.kz/avtory/22064-igra-vimitaciu-po-kazahstanski.html, 2019.
[11] «Ценности казахстанского общества в социологическом измерении», Фонд имени Фридриха Эберта, Представительство в Казахстане, стр. 63.
[12] Там же.
[13] Там же.
[14] По материалам Института Евразийской интеграции, 2019, https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/sostavlen-reyting-ojidaniy-kazahstantsev-ot-tokaeva-382151/
[15] «Сиясет намэ, Книга о правлении вазира XI столетия Низам ал-Мулька», Издательство АН СССР, Москва -Ленинград, 1949, стр.65.
[16] 2018: Неутешительные итоги, https://rezonans.kz/guest-rezonans-kz/8881-2018-neuteshitelnye-itogi, 2019.
[17] «Контроль общественного мнения», https://vlast.kz/politika/33607-kontrol-obsestvennogo-mnenia.html, 2019.
[18] DIGISTAN 9, https://www.youtube.com/watch?v=o7n4JWdCUbg, 2019.
[19] https://informburo.kz/novosti/nazarbaev-nur-otan-za-poslednie-mesyacy-ne-vyrazil-svoey-pozicii-ni-po-odnomu-rezonansnomu-sluchayu.html, 2019.
[20] Ценности казахстанского общества в социологическом измерении», Фонд имени Фридриха Эберта, Представительство в Казахстане, стр.67
[21] Там же. Стр.66.
(2020г.)
Общественный договор — Общественный договор представляет собой соглашение, достигаемое гражданами по вопросам правил и принципов государственного управления с соответствующим им правовым оформлением. Основным содержанием ОД является принцип делегирования власти от её суверенного носителя (народа) государству (элитам), который приобретает качества консенсуса между властью и народом.
Realpolitik (Реальная политика, нем.) — это политика или дипломатия, основанная, прежде всего, на рассмотрении объективно имеющихся обстоятельств и факторов, противопоставленная политике, основанной на идеологических понятиях или на морально-этических ценностях. Realpolitik сочетает в своем философском подходе аспекты реализма и прагматизма.
Контрактуализм (иногда «контрактарианизм») – философская категория, утверждающая, что не существует заранее заданной этики. Свод этических правил возникает в результате договора всех участников. Договор должен быть таким, что каждому участнику будет лучше в обществе с этим договором, чем вовне. В контрактарианизме участники максимизируют удовлетворение своих интересов в сделках с другими. При этом удовлетворение интересов должно основываться на обосновании своих интересов и действий.
Естественное право (лат. ius naturale) — доктрина в философии права и юриспруденции, признающая наличие у человека ряда неотъемлемых прав, которые принадлежат ему исходя из самого факта его принадлежности к человеческому роду. Согласно ей, у каждого индивида есть некоторые высшие, постоянно действующие права, олицетворяющие разум, справедливость, объективный порядок ценностей или даже мудрость самого Бога. Все они не зависят от норм и принципов, установленных государством, и действуют напрямую. Для законодателя естественное право должно быть ориентиром, к которому необходимо стремиться. Отсюда же выводится право народа на восстание в случае, если естественные права в данном государстве попираются. Моральные права человека с позиции моральной концепции, именуемой «Правами человека», в таких случаях правовые нормы или действия, противоречащие моральным правам человека, называются противоправными/антиправовыми.
Позитивное право (лат. ius positivum) — совокупность действующих нормативных правовых актов государства. Система общеобязательных норм, формализованных государством, посредством которых регулируется жизнь субъектов права на некой территории, которые являются регуляторами общественных отношений и которые поддерживаются силой государственного принуждения.
Право на восстание (лат. jus resistendi), также известно как право на сопротивление угнетению, право на революцию — в политической философии, право граждан любыми средствами, вплоть до вооруженной борьбы, защищать свои права и свободы от узурпаторов. Относится к естественным правам, то есть не требует подтверждения нормами позитивного права. Право на восстание основывается на том, что единственным источником власти в государстве является народ и, следовательно, имеет право сопротивляться узурпации власти или её злоупотреблениям. Реализация народом права на восстание является актом прямого выражения суверенной власти народом, в отличие от Общественного договора, при котором власть делегируется народом в пользу государствообразующих элит.
Laissez-faire (с фр. — «позвольте-делать»), или принцип невмешательства, — экономическая доктрина, согласно которой государственное вмешательство в экономику должно быть минимальным. Принцип LF, как «чистый капитализм», или «капитализм эпохи свободной конкуренции», определяется частной собственностью на ресурсы, использованием рынка для координации цен и экономической деятельности, поведение экономического агента мотивируется его эгоистическими интересами, стремящегося максимизировать свой доход на основе личного принятия решений. Основным аргументом сторонников данного принципа является утверждение о том, что экономика — такая саморегулирующаяся система, которая сама находит эффективное равновесие.
«Цветные» революции — смена правящих режимов, осуществляемая с преимущественным использованием методов ненасильственной политической борьбы, обычно в форме массовых уличных акций протеста. Существует конспирологическая теория ЦР, согласно которым эта смена происходит в интересах стран и олигархий Запада, в частности США. А также общественно-экономическая теория, согласно которой ЦР происходят на рубеже смены индустриального и постиндустриальных этапов развития общества. Происходит это в том случае, когда существующий режим ограничивает гражданские свободы, а политические условия препятствуют устранению этих ограничений.
Политический PR – специализированная деятельность субъектов политики на распространение выгодной информации и дезинформации среди населения для формирования в обществе определённого мнения и способствования принятию решений. ПП осуществляется с помощью информационных инструментов воздействия и направлен на изменения общественного мнения по тому или иному вопросу, представляющему социально-политическую важность или актуальность.
Политические технологии – общественно-политические технологии управления общественным мнением и общественным сознанием, с целью достижения определенных политических целей. ПТ отличаются от ПП тем, что подразумевают организованные консорции, обладающие конкретным целеполаганием в виде политических целей, стратагем и тактических решений. Классическими сферами деятельности ПТ являются предвыборные кампании, кампании по лоббированию законов и социально-экономических программ, реализация политической воли конкретных социальных групп, а также формирование массовой поддержки тем или иным политическим инициативам, в том числе и практическим действиям государства, которые могут носить непопулярный характер. В отличие от realpolitik не обязательно направлены на кардинальную смену общественных отношений.
«Прецедент Косанова» — неофициальное понятие, существующее в экспертной среде и в социальных сетях, связанное с ролью казахстанского политика Амиржана Косанова. А.Косанов баллотировался в качестве кандидата в президенты Республики Казахстан во время выборов 9 апреля 2019 года. По мнению оппозиционных экспертов его роль является символом сговора с властью по легитимации президентских выборов. А также его персона является символом вероломного предательства общественного доверия протестных кругов казахстанского общества. Среди официальных экспертов это понятие не применяется.
.svg)